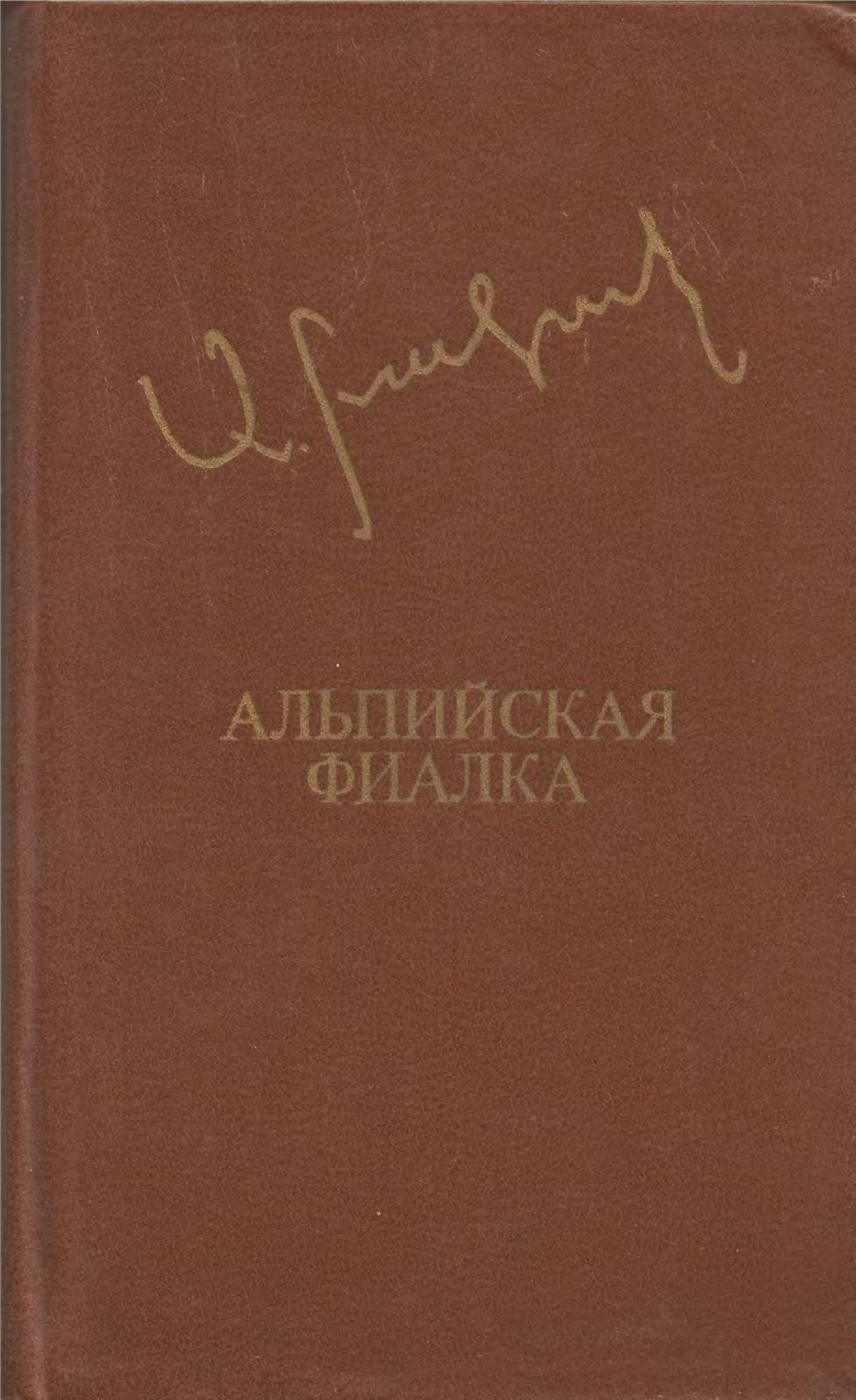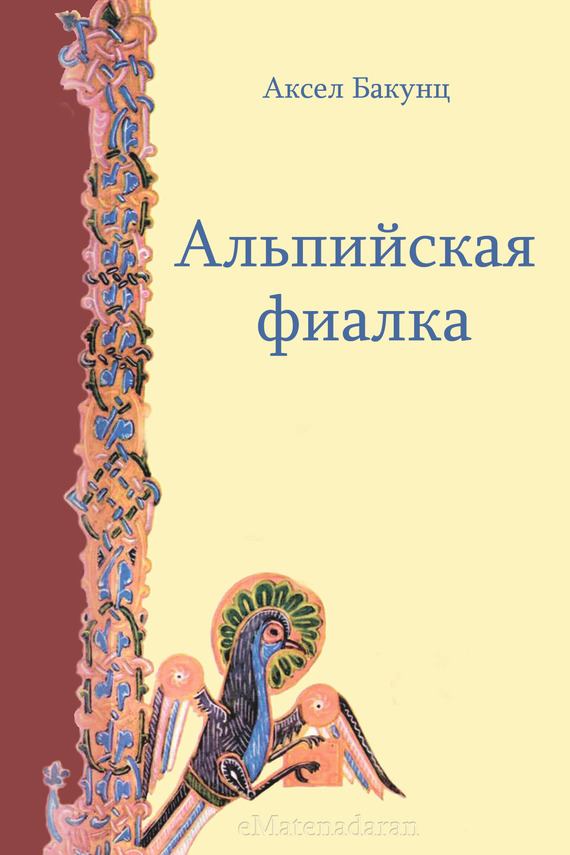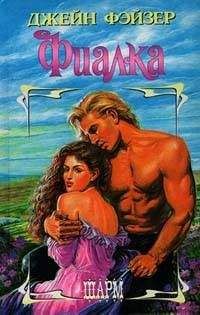…он двинулся вперед,
Туда, где уж однажды побывал, —
В суровый край обледенелых скал,
Где, влажными туманами дыша,
Стоит Масис — Армении душа.
Е. Чаренц [116]
1
После ужина профессор, обратясь к юноше, сказал: 1 — Теперь приступим к нашему делу, дорогой диаконус.
Они перешли в кабинет профессора. «Делом» была та приятная беседа, которую, закурив, начинал профессор Паррот. Но сейчас он плотно прикрыл дверь комнаты и, погрузившись в вольтеровское кресло, не произнес, как обычно, «мир — дым и суета, Саади, если тебя верно перевел мой Liebling». Он раскурил персидскую с черешневым мундштуком трубку. Свеча освещала одну половину его лица, и когда синий дым струился вверх, казалось, это шевелятся его волосы.
Юноша сидел возле подсвечника, держа в руках щипцы, которые в ту пору имелись в каждом доме, — ими подправляли пламя свечи. Время от времени сквозь дым юноша ловил на себе сверкающий взгляд. Диаконус вспомнил, что вечером профессор вернулся домой озабоченный и мрачный. Он провел весь день на вершине Домберга, в новой обсерватории… Даже детей не приласкал… Юноша попытался сквозь дым увидеть его глаз, но глаз был закрыт… Может быть, он заболел?.. Юноша с тревогой взглянул на этого маленького тщедушного человека, на худом и костлявом лице которого сейчас отчетливо проступала игра света и тени. Трубка профессора погасла.
Глухим голосом Паррот произнес:
— Я сообщу вам, милый Абовян, одно известие, но должен просить вас не говорить об этом никому, даже мадам Ауслендер.
Юноша насторожился. От слов профессора повеяло холодом — лишь в присутствии посторонних он обращался к нему по фамилии. И зачем он назвал мадам Элоизу? Не она ли вошла сейчас в комнату? — зашелестело платье, словно ветер прошелся по сухой траве… Нет, это пламя метнулось, запрыгали тени, свеча затрещала и вновь засияла ярким светом.
— Мой милый Армениер, сегодня я получил письмо от одного моего знакомого, который недавно побывал в вашей стране, а нынче находится в Санкт-Петербурге. Он совершенно секретно уведомляет меня о том, что ваши соотечественники отказались от своей клятвы и заново засвидетельствовали, что мы не поднимались на вершину Арарата…
— Как?! — вскричал юноша и вскочил на ноги. Сейчас он был похож на осужденного, которого ведут на казнь. Он слышит шаги палача и, на мгновенье похолодев, сжимает кулаки, в глазах — ужас и ярость.
— Как не поднимались? — уже спокойнее спросил он, но в этом спокойствии было что-то страшное.
— Я же попросил вас не волноваться, мой благородный друг, — с сочувствием произнес профессор.
— Может быть, известие неверно?
— К несчастью, оно верно. — Они помолчали. Свеча весело потрескивала. За шкафом мышь пилила дерево, но и она затихла, предчувствуя в наступившем молчании что-то зловещее.
— И тем не менее не стоит отчаиваться, — профессор медленно прошелся по комнате, сцепив за спиной руки. Остановившись подле шкафа, он повернулся к юноше, медленно и уверенно произнес:
— Когда-нибудь истина восторжествует… После нас поднимутся на вершину другие и увидят наши следы. А до той поры, я постараюсь поскорее опубликовать мою книгу, и тогда пусть говорят, сколько пожелают.
Диаконус задумался. Чем больше он думал, тем коварнее и подлее казалась ему эта измена. Кто мог организовать ее? Архимандрит Ованес, пономарь Симон или тот полусумасшедший епископ, который с яростными проклятиями набросился на него, лишь только они вступили во двор монастыря. Но когда диаконус достал из-за пазухи склянку, в которой уже растаял лед с вершины Арарата, этот безумец первым выхватил у него из рук склянку и стал окроплять себе лоб и руки той водой, которая была принесена с ледового пристанища Ноева ковчега. Потом накинулись остальные монахи с гноящимися глазами, подбежали какие-то нищие калеки, безобразные юродивые, которые подобно бездомным псам бродили по монастырскому двору. Вскоре огромная груда вопящих зловонных полунагих и страшных тел заколыхалась, как огромный тарантул, на теле которого кишат его бесчисленные детеныши.
Бывший монастырский писарь давно позабыл и эти и другие горестные минуты. Они осели в его памяти мутным осадком, и старое, как вода, просачивающаяся сквозь камень, с течением времени очистилось. Теперь он вспоминал монастырские чинары, бескрайнее поле, Бардогские горы, а к западу равнину, в которую, как в море, опускалось солнце. Перед его глазами вставал монастырь, скирды и снопы, стадо, мычанием заглушавшее вечерний перезвон. К этому времени ученики семинарии и послушники бежали к хлевам, чтобы у доящих старух выпросить по кружке парного молока. Он вспоминал рассказы бродячих чесальщиков шерсти, которые зимой жили в кельях отшельников и чесали шерсть и вату. В монотонном шуме звучала песня чесальщика и вместе с песней волнами громоздилась вата…
Глаза его наполнились слезами. Он сжал губы, сдерживаясь, чтобы не прослезиться. Левая щека подергивалась. Чуть поодаль, о чем-то задумавшись, стоял профессор. Может быть, он просто разглядывал книги в шкафу…
Неожиданно юноша схватил его за руки, и голос его дрогнул:
— Прошу вас, будьте снисходительны к моим соотечественникам. Здесь замешана чья-то злая воля, мои земляки и сами не знали, на что шли. А я уверен, что этих несчастных крестьян жестоко избивали, пока не заставили отказаться от первой своей присяги… Но я — свидетель, я! — он с силой ударил себя в грудь. В его ясных глазах сквозь пелену слез сверкала неподдельная страсть. — Клянусь честью и собственной жизнью…
— Сколько раз я просил вас не говорить подобных слов, — прервал профессор тем бесстрастным тоном, которым обучал его правильно произносить слова, читать вслух, быть сдержанным в выражениях, не клясться ни именем господа, ни честью, а говорить одну лишь правду, — словом, тем строгим тоном наставника, которым немецкий профессор усмирял восточный темперамент юноши, считая это порождением темной азиатской среды. В другое время диакон постарался бы, как школьник, исправить свою ошибку, но нынче он дал себе волю:
— Я докажу, что мы поднимались на вершину, что все они — бесчестные лгуны… И я узнаю, кто заставил крестьян стать клятвоотступниками… Только умоляю вас простить их, моих бедных, моих неразумных соотечественников.
И долго сдерживаемые слезы хлынули из глаз. Он зарыдал, как ребенок, который покорно выслушивает упреки матери, но вдруг слабеет какой-то нерв, какая-то мышца, и он более не в силах сдерживаться…
2
Он вернулся в свою комнату. Попробовал заняться уроками, но не смог. Затем взял в руки карандаш, чтобы поработать над картой, которую чертил с большим воодушевлением, намереваясь эту первую армянскую карту («ашхарацуйц», как уже вывел вязью) преподнести