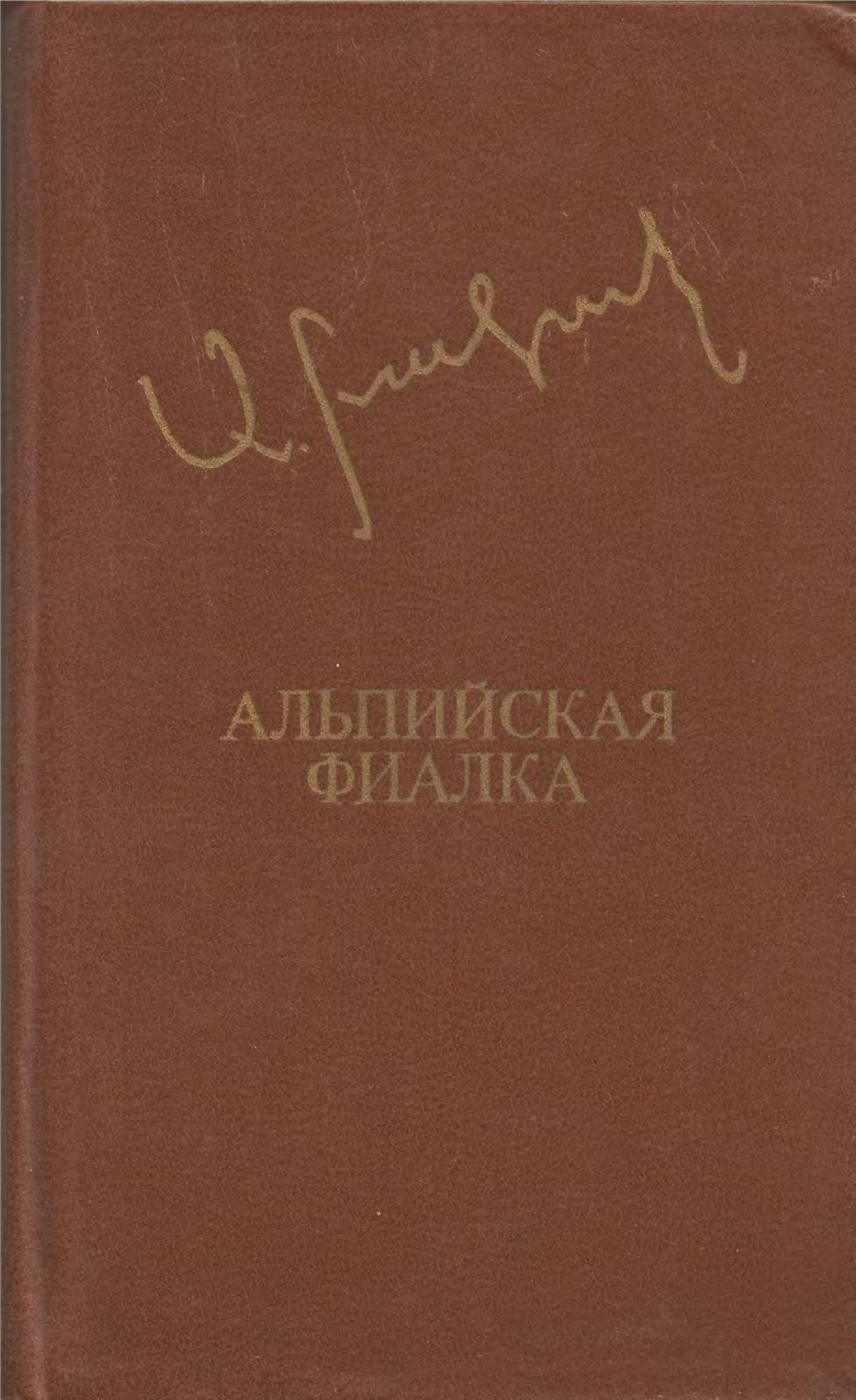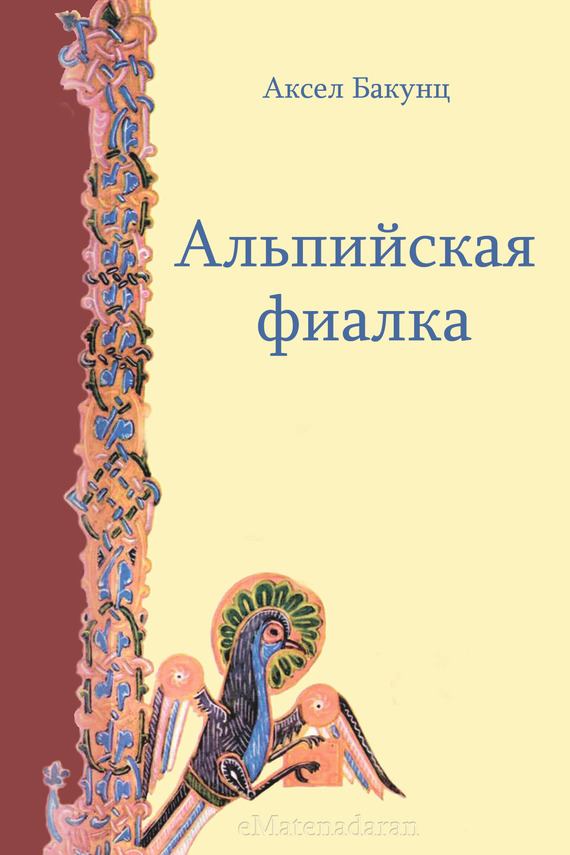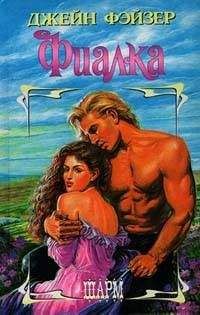спускался к ереванскому рынку. Он шел узкими улочками, по обе стороны которых тянулись низкие и полуобвалившиеся глиняные стены с наполовину вросшими в землю воротцами, большей частью запертыми. За стенами не слышно было голосов, дома словно вымерли. Прошло пятнадцать лет с тех пор, как русские завоевали Ереван, и за все это время только в квартале Шкар было построено два каменных дома и одна казарма недалеко от сверкающего дворца сардара.
Рынок, а в особенности отдаленные кварталы пришли в еще большее разрушение оттого, что жители не утруждали себя и не нагибались за кирпичами, выпадающими из древник арок.
Немало домов развалилось в русско-персидскую войну, хозяева других в страхе бежали и теперь на чужбине тосковали по ивам, растущим во дворе покинутого дома. Те, которые остались, продолжали жить в полуразвалившихся домах: мешала дороговизна, да и время было какое-то смутное. Некоторые ожидали возвращения сардаров, для других жизнь была тем старым ярмом, которое изнашивалось вместе с шеей носившего его.
Грязные уличные лужи распространяли едкое зловоние. Во многих кварталах были завалены арыки, и бахчи уж не цвели, как прежде. Исчезли и персы-мирабы, которые распределяли воду, как живительное лекарство — до последней капли. Зеленели только старые тополя и чинары, которые, оставшись без ухода, буйно расцвели и одичали, превратив в темный лес ухоженные когда-то сады.
По безмолвным улицам шел вниз Арутюн Абов, потомок легендарного деда Абова, пришедшего из страны лезгинов. Почему-то родственники называли Арутюна «Мирза-ами» или «Мирзам» [118]. Он был старшим в древнем роду Абовов.
По случаю выхода в город он надел свой единственный праздничный наряд — чуху из кирманской шерсти. Остроконечная папаха еще более увеличивала его рост, а серебряный пояс подчеркивал гибкую талию. В такт его медленному шагу позвякивали подвешенные к поясу огниво и большой пастушеский нож. На всей внешности Мирзама также лежал отпечаток ветхости. Все, даже позванивание серебра, словно говорило о том, что этот, некогда знатный человек никогда больше не наденет нового платья. То, что было на нем, состарится вместе с ним, и в этой же изношенной одежде его опустят в землю. Об этом говорили вытертый мех шапки, бахрома на платке и в особенности выгоревшая на груди чуха. Полой той же чухи старик прикрыл грудь. Новыми были его цветастые носки с удивительным орнаментом. На маленьких белых квадратах мастерица вышила разноцветными нитками розы и нарциссы. Здесь же были сказочные звери, птицы и всевозможные фигуры, имевшие когда-то определенный смысл. Края носков обрамляла черная зигзагообразная нить, которая прерывалась черными точками, и все это напоминало арабские письмена. Мирзам был похож на взрослого ребенка, которого мать вырядила в эти «жениховские» носки, и вот он бродит среди глухих улочек в поисках заветной двери.
Он уже не столь остро ощущал укоры совести, утих гнев, который огнем опалял его лицо. В ту зиму Ехсан, мать Майран, в числе других близких обратилась и к нему за советом насчет замужества Майран. И Мирзам не стал ее отговаривать. Более того, он похвалил жениха, Никогаеса, как порядочного человека. И еще, как известно из дела, Арутюн Абов принимал участие в свадебном «застолье». Мирзам, однако, чувствовал за собой и другую вину, которая безжалостнее первой томила его. Сейчас старый Мирзам шел к человеку, которого любил больше, чем родного сына. И гордился им. А было время, когда он тащил шалуна домой на своих плечах…
Еще совсем юным он, этот его любимец, всей душой воспротивился замужеству Майран. Он пригрозил Мирзаму, что уйдет и никогда более не вернется в Канакер, если девочку («дитя малое») заставят стать невестой. Мирзам не придал тогда значения его мольбам и угрозам, подумав, что тот еще слишком юн и не постиг всю горечь нужды. И вот жизнь подтвердила правоту не его, седовласого, повидавшего немало добра и зла человека, а того милого его сердцу мальчика, неопытность которого он сам высмеивал.
Первую свою вину он искуплял тем, что всячески опекал беззащитную сироту. В удушливом море позора его дом стал для Майран единственным островом. Мирзам с упорством следил за «делом» Майран, словно собственными руками счищал кровавую грязь со своей совести. Это давало ему душевное облегчение, но выносить укоряющий взгляд родного человека у него не было сил.
Мирзам шел к нему, чтобы поведать о решении духовного суда. То ему казалось, что исход дела обрадует его любимца, то его брало сомнение, когда вспоминались последние слова судебного заключения:
— На окончательное рассмотрение Эчмиадзинского Синода…
Слова эти будто доносились из мрачных недр земли, ив царства вечной тьмы и смерти.
Шел Мирзам по знакомым улочкам и чем дальше углублялся в лабиринт переулков, тем больше успокаивался. Медленное умирание домов, стен и улиц словно примиряло его с другой смертью — забвением. Когда он думал о Майран и о том старом времени, в его памяти всплывали именно эти улицы, но в том своем прежнем виде. Мысль его прерывалась при виде роскошных ворот, но без стен, без дома и цветущего сада. Проходил по каменным мосткам, и потрескавшиеся камни говорили о том, что уже давно здесь не протекает вода. Если бы в этом глухом переулке не попался ему навстречу человек, с проклятиями понукающий осла, если бы не встретил он старых турчанок, полощущих в мутной воде ветхие карпеты, полуголых детей, копошащихся в золе, если, наконец, в одной из бахчей не раздался бы плачущий напев тара, из-за закрытой двери не донесся веселый девичий смех, — если бы не все это, Мирзаму могло показаться, что он очутился в другом городе, где те же выгоревшие серые стены, те же тесаные камни, те же увитые виноградом калитки, но исчезла роскошь восточного города, и нет людей, которые в своих цветущих садах упивались этой роскошью.
На одной из улиц две чинары слились кронами и образовали зеленую арку. Стая скворцов весело щебетала в густой зелени крон. У одной из стен лежал гладкий камень. Оттого ли, что тысячи людей садились на него, или дождь и ветер отшлифовали его, но в тени камень отливал синевой, как глазурованный глиняный кувшин.
Мирзам сел на камень. Он прекрасно знал это место. За стеной был дом сеида Эхсана, того знаменитого сеида, с именем которого было связано множество историй; их пересказывали в своих песнях ашуги. Сеид Эхсан был кирвой — побратимом отца Мирзама. Осенью, когда они возвращались с паломничества, обязательно на одну ночь останавливались в этом доме. Ортодоксальные мусульмане проклинали эту дружбу, но сеид Эхсан не прекращал ее. В год раз он