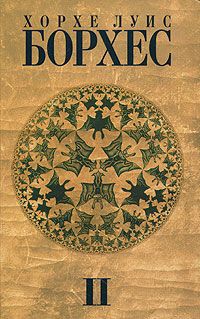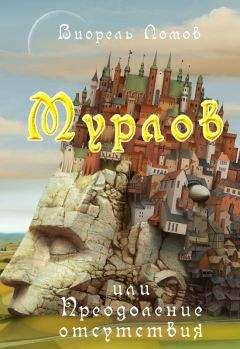Что-то не пьет, а пьяный.
Потом с полчаса танцевали и тряслись под оглушительный рев, называемый музыкой. У Сизикова неплохо получался танец живота, поскольку для того, чтобы получался танец живота, надо, как минимум, иметь живот.
А под компоты водка вообще пошла за милую душу. Пока пили и мыли косточки новому замдиректора по экономике, Мурлов обсуждал с замом Сизикова по общим вопросам Чебутыкиным, большим любителем театра, проблемы театральных постановок и причин, по которым сейчас почему-то совсем нет трагедий, точно их все уже написали Еврипид, Эсхил, Софокл и Шекспир, ну а в двадцатом веке Лорка.
– И сейчас бы нашелся автор, чтобы написать трагедию, но сейчас все так измельчало, да и трагедию о муравьях не напишешь, – сказал Чебутыкин.
– Почему же не напишешь? – возразил Мурлов. – Впрочем, она тоже уже написана. О муравьях. «Илиада». Ахилл был мирмидонянином, а по-гречески это значит муравьем. «Мирмидоняне» – была и такая пьесочка. Да и что трагедии! Ты, Сергей Александрович, все трагедии на театре ищешь. Вон посмотри в «Рекламе» («Реклама» – как «Рамаяна»!) объявления из раздела службы знакомств. Вот где трагедии. Каждое слово – трагедия. Высечено из камня одиночества, выгрызено зубами. Всю жизнь высекалось, всю жизнь выгрызалось. «Где ты – мой – хороший – добрый – уставший от одиночества – человек?» Какую еще тебе трагедию надо? Одинокий человек в комнате – это ужасно. Да если еще и потолки два сорок… Достоевский сразу на память приходит. А одинокий человек в жизни?.. Ведь жизнь со временем сжимается, как кулак. Где взять силы, чтобы разжать этот кулак? «Faust» – читал? Одному его не разжать. Нужен Мефистофель. Это так страшно, когда ты один ищешь выход, а выхода нет.
Чебутыкин с настороженным любопытством слушал Мурлова – кто бы мог подумать, что его, такого замкнутого, молчаливого и, как казалось многим, недалекого человека, могут интересовать проблемы трагедии. И не просто на уровне житейского трепа, а на уровне, скажем, необходимости хора в современной трагедии, буде она создана. Или чего стоит одно его замечание, что без мифа нет и трагедии, а сегодня мифологическая картина мира напоминает кабак. Оттого и трагедии происходят по кабакам, которые многим заменяют родину, семью и душу. «Хорошо бы поболтать с ним трезвым, – подумал Чебутыкин. – Не станет, однако».
А за столом продолжалось «принятие». «У нас на предприятии одни мероприятия: то в партию принятие, то в гараже «принятия».
– Эх, грибки в этом году слабые! Щас бы грибков жареных! – вскрикнул вдруг Сизиков.
Грибы с картошкой, зажаренные на громадной сковороде с тефлоновым покрытием, были любимым блюдом Сизикова.
– Грибы очень хороши от рака. Рак их боится. И после них испытываешь удивительное чувство полета, когда сидишь на унитазе. Вот как орел замирает в воздухе…
Сизиков любил все, но мучного старался не есть, разве что пяток-другой пирожков в два-три укуса и хороший кусок торта. «Большому куску рот радуется», – говорил он в таких случаях. А еще у него было свое правило деления на три: три – золотое число, на троих делится любое число и любое количество без остатка. Прямо не Сизиков, а Хирон.
Сотрудники и подчиненные хорошо знали его основной тест при найме на работу новых работников – что ешь и сколько ешь за один присест, а также его знаменитое высказывание: «Я узнаю людей по тому, как они едят. В еде сразу виден весь человек. Друг тоже познается в еде». Когда они ходили в заводскую столовку вместе с Сизиковым, то старались явить себя за обеденным столом эдакими Пантагрюэлями со слабыми инженерными задатками и уплетали общепитовскую похлебку с таким завидным аппетитом, что даже раздатчицы начинали пробовать еду и находить в ней утерянный на плите времени вкус.
Мурлову нравились гедонисты, и потому он спокойно воспринимал шутки Сизикова, которые не простил бы никому другому. Все помнили, как однажды на недвусмысленный намек, касающийся профессиональной честности Мурлова, зам. заводского секретаря по идеологии получил прямо за трибуной, с которой вещал, аккурат в глаз, за что Мурлова месяца два трепали на всяких собраниях и чуть не лишили должности начальника участка. Хорошо, заступились Сизиков и главный инженер завода. Мурлову, правда, пришлось пожертвовать местом в списке на выдвижение, и производство на уровне завода потеряло неплохого технолога и организатора, что не всегда гармонично совмещается в одном человеке. Идеологу же, для равновесия на заводе, пришлось пожертвовать партийной карьерой, но это пошло на общую пользу, и прежде всего – на пользу производству.
Праздники отгуляли, отоспались, и снова покатились дни, как бревна в реку, уносящую их далеко-далеко от тех мест, где они росли ввысь и где были спилены под корень.
***
Мурлов продолжал жить двойной, а может, и тройной жизнью, как живут все нормальные люди. Это только у сумасшедших одна нормальная жизнь. Он часто, почти осязаемо, ощущал себя деревянной, кем-то не очень умело расписанной матрешкой. Снаружи был Мурлов для работы, для общества, для всевозможных формальных и неформальных организаций. Под внешней отлакированной, хоть на выставку, скорлупой был Мурлов для дома и семьи, для ближних и дальних родственников. Под этим черепаховым панцирем было пространство уединения в редкие минуты добровольного одиночества, не того, разумеется, о котором он говорил Чебутыкину. Это пространство напоминало заводь у реки: песчаную косу, плакучие ивы, белые облака в синей воде, неясные, как дуновение ветерка, мысли и фантазии… Еще глубже располагалось что-то постоянно гнетущее и напоминающее о себе в мгновения пробуждения страшным сердцебиением и еще не растаявшими голосами из сна. Но и сердцебиение, и эти голоса находили, в свою очередь, успокоение где-то еще глубже, на самом дне Мурлова, в чем-то вечном, до чего он никак не мог докопаться. Видимо, к этому дну надо было не опускаться вниз, а взмывать вверх.
Человек меняется с годами неизбежно, незаметно и завершенно, пока вдруг не скажет самому себе: «Стемнело». И даже если он очень сильно захочет стать, например, светлее, сделать он этого уже не сможет, так как все сильней и сильней погружается во мрак.
Работа начальника участка тяготила Мурлова, тяготила с первого же дня, как он дал на нее согласие, частично, конечно, обуреваемый честолюбивыми замыслами, но более прельщенный возможностью увеличить свою зарплату сразу на полторы сотни. Он называл свою должность «начальник однообразного разнообразия безобразий».
День его был занят, как говорится, от сих и до сих. Первый «сих» начинался в восемь, второй «сих» кончался в пять, а в промежутке был один «псих».
В восемь утра его ждали как отца родного. И если всю дорогу от