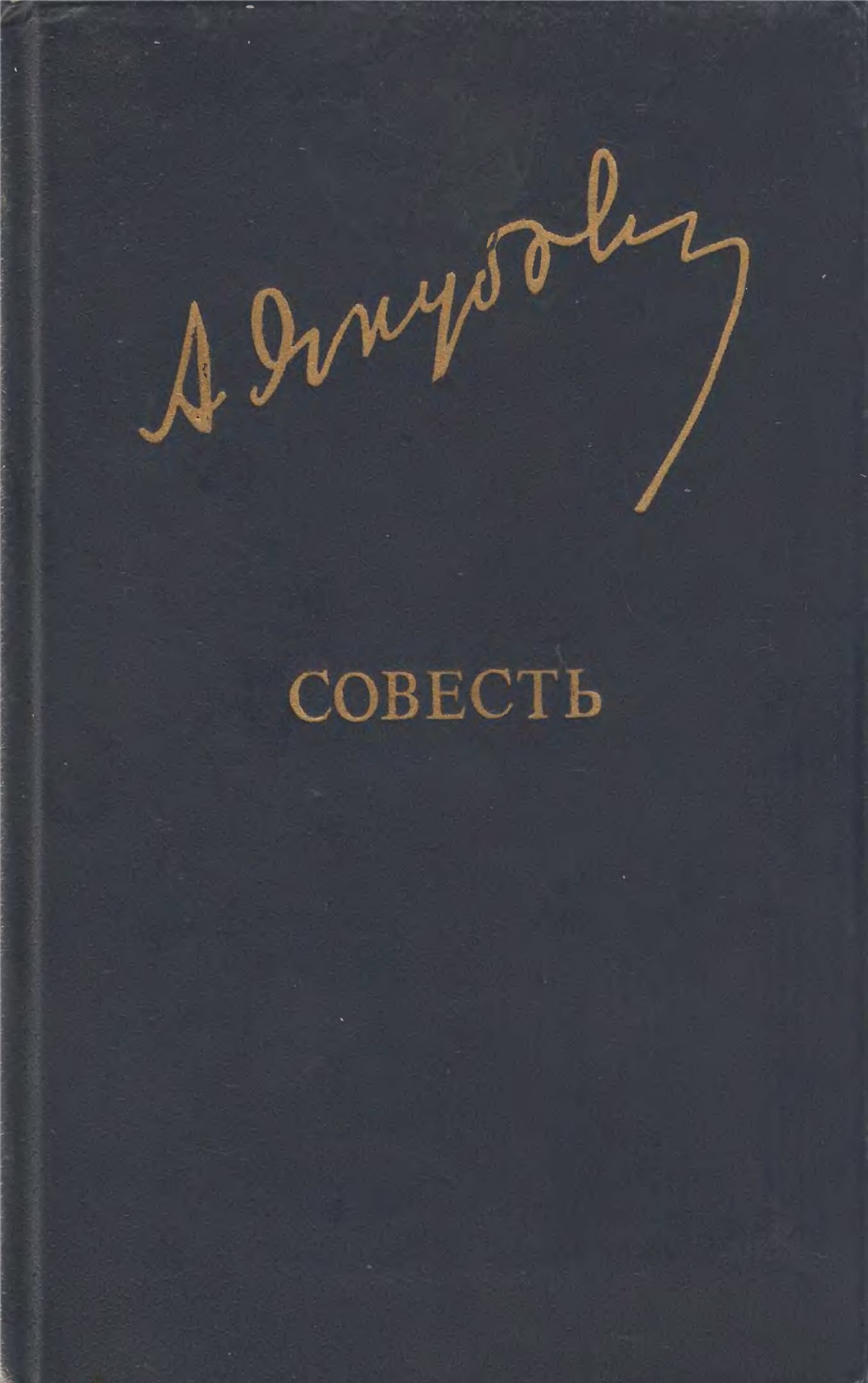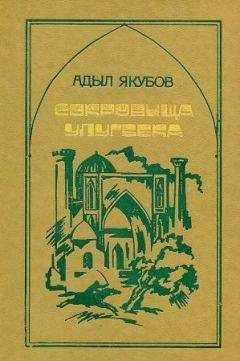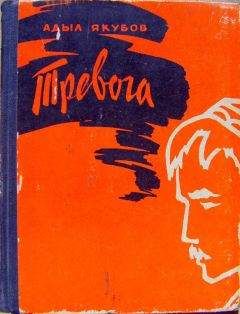только тяжелое дыхание Хайдара да всхлипы Тахиры.
Алия провела рукой по мокрым от слез щекам. Посмотрела на Абидова — он так и стоял с опущенной головой под яблоней, потом на Нормурада-ата, все так же сидевшего на сури, и остановила взгляд на замершей у ворот Фазилатхон.
— Фазилатхон, милая! Никто не слышал этого разговора! Никто! Хайдарджан ничего не говорил, и вы ничего не слышали. Дядюшка, вы поняли меня? Дядюшка!..
Домла не двинулся. Молчал.
2
Фазилат не находила себе места: вот уже несколько часов, как Латофат заперлась в своей комнате. Так было и в ту ночь — после разговора с Кадырджаном. Ни слова не вымолвила, не всплакнула. Уж лучше бы плакала, выговорила свою боль, освободила душу от всей этой копоти!
Странный парень Хайдар. Взрослый, без пяти минут ученый, а ведет себя, как юнец. Будто уличный хулиган, скандал учинил, обозвал приезжего всякими словами. И это перед самой свадьбой! К кому ревнует невесту? Разве это соперник — ни виду, ни положения, да и за тридцать уже перевалило.
А все Атакузы. Ведь он за людей не считает ни Фазилат, ни сына, ни даже Латофат. У Атакузы только на языке — кудагай, на самом же деле Фазилат для него — пустое место. Аллах знает, может, еще и стыдно ему, что роднится с ней. Дает понять всем: истинный сват его — Бурибаев! Вон куда гнет.
Потому и устроил царский прием Бурибаеву, в горы возил, барана зарезали в его честь. А вчера, как вернулся с гор, еще барана зарезали. Музыканты, которыми тешил гостей, уехали в город, так он школьных учителей заставил, есть там такие — хорошо умеют играть и петь. До самого утра пировали в саду. Фазилат уснуть не могла, ее дом через улицу — все слышно. Под их музыку вспоминала прошлое. Проплакала всю ночь. Кадырджан — дай бог, чтобы жизнь его была долгой! — не отходил от отца, вместе с ним веселился, а утром уехал провожать. А Латофат, как и мать, не сомкнула глаз. До самого рассвета слышны были шаги в ее комнате, и свет то зажигался, то гас. Через улицу из сада Атакузы неслись пьяные крики: «Молодцом, Джамал Бурибаевич! Пусть живет Джамал-ака сто лет!»
Как ведь обидно… В детстве Атакузы был такой добрый, отзывчивый. А теперь что с ним стало! Ну хорошо, допустим, не считается с нами, с женщинами, не берет во внимание ни Фазилат, ни дочь ее, уверен ведь — никуда им не деться. Но бедный старик, его родной дядя! О нем хоть бы подумал.
Фазилат не видела домлу Нормурада с самой войны. А месяц назад посмотрела на него в день траура и несколько дней не могла прийти в себя. Ничего не осталось от прежнего Нормурада. Тогда, до войны, он казался большим, крепкий такой был, коренастый. Красивый был мужчина. А лицо какое! Робела смотреть на него — такая была в лице его мудрость.
Сегодня Фазилат еще раз увидела домлу, теперь уже вблизи, и опять заныло сердце. Посреди комнаты с книгами стоял сгорбленный старик с усталыми, глубоко запавшими глазами, и лишь большая лобастая голова напоминала прежнего Нормурада Шамурадовича.
И не такой уж он суровый, как представляла себе раньше. Будь она на его месте, не пустила бы ее, Фазилат, и на порог. Ведь откуда было ему знать правду — что случилось с ней. А если и слышал что, так это еще хуже, чего только люди не наговорят…
Странно, каждый раз, когда Фазилат думает о Джаббаре, в памяти всплывают не счастливые дни первых свиданий, не тайные поцелуи в кишлачных садах, нет, вспоминалось другое — тревожная встреча на Комсомольском озере в Ташкенте.
Прошла неделя после начала войны. В тот день по радио выступил Сталин. С неожиданной откровенностью прозвучали его слова, и люди все поняли и содрогнулись…
Знаменитый сейчас парк, у Комсомольского озера в то время только-только открылся. Каждый вечер устраивались в нем народные гулянья, гремели литавры, пели карнаи и сурнаи, канатоходцы показывали свое искусство — по тросу, протянутому над озером, переходили с берега на берег.
Фазилат пришла в парк задолго до условленного времени. Здесь будто ничто не изменилось: было многолюдно, гремели литавры, трубно взывали к гуляющим карнаи и сурнаи, а под канатами в нетерпении гомонила детвора. Но для Фазилат все стало иным: и литавры словно присмирели, и карнаи не пели, а стонали, плакали, словно провожали на войну.
На аллее показался Джаббар. Она сжалась — он тоже был не тот. В зеленой гимнастерке, перехваченной ремнем, в тяжелых кирзовых сапогах — не узнать. Снял пилотку — пугающе суровой показалась новая короткая стрижка.
В груди заныло…
— Вы тоже… на фронт?
— Нет, пока что на строительство. Но скоро должны отозвать, — Джаббар испытующе вглядывался в глаза Фазилат. Потом взял ее руку. — А что ты собираешься делать?
— Я… Закончатся экзамены, поеду в кишлак.
— Правильно! — Джаббар обрадовался. — Очень будет хорошо, если ты до моего возвращения поживешь в кишлаке.
Глаза Фазилат наполнились слезами.
— Зачем так говорите? Будто сегодня уже едете на фронт…
— Фронта не миновать. Ты же умная девушка, должна понять.
— Значит… мы больше не увидимся? — у Фазилат задрожали губы.
— Ничего не могу сказать тебе сейчас, Фазил. Когда призовут, постараюсь повидать тебя. Хоть на час — обязательно приеду. — Джаббар взял в ладони ее мокрое, заплаканное лицо. — Запомни одно, Фазилат: где бы я ни был, в какие бы переплеты ни попал, ты всегда будешь со мной. Я буду драться с врагом, потому что ты меня ждешь. И постараюсь вернуться с фронта живым, потому что ты меня ждешь. Запомни это, Фазил!
Джаббар стал целовать ее глаза, брови, губы. Как он ее целовал! Весь горел, будто от предчувствия разлуки и беды.
На следующий день Джаббар уехал на строительство, куда — не сказал, наверно по специальности. В тот год он закончил второй курс института железнодорожного транспорта.
Фазилат, сдав последний экзамен, отправилась в кишлак. Дыхание войны чувствовалось и там.
Не каждый день, но в неделю раз кишлак провожал своих джигитов на фронт. Призывники собирались на базарной площади перед куполовидной мечетью, и стены древней крепости сотрясались от плача матерей, жен, невест и сестер. Шумела, путалась в ногах детвора. «Илохи омин! — Да благословит вас аллах!» — напутствовали джигитов старики.
Всю неделю перед прощальным днем в кишлаке играли свадьбы. Уходящие на фронт торопились соединиться со своими подругами. Плакали карнаи, сурнаи, женщины тянули печальные свадебные «яр-яр» —