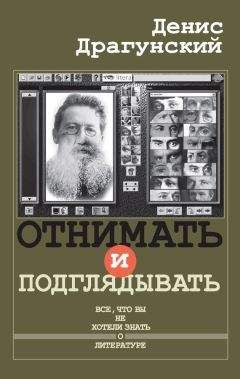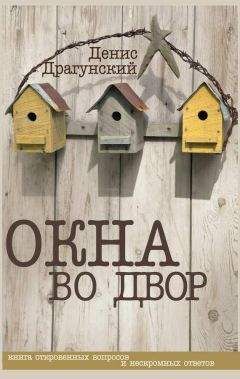восемь было, а может, и того меньше. Прямо хотела вам ножки расцеловать. Вот я и подумала — зачем нам в таком разе ребенок? И решила.
— Что? — спросила я.
— Пошла в подвал к работницам. Они меня к одной бабке повели. Она мне туда что-то впустила. Вроде мыльного раствора. Но я не знаю точно. Что-то разводила в мисочке, а потом клистиром впускала. — Грета взяла мою руку, прижала к губам и сказала: — Вот я теперь совсем свободная для вас.
— Грета, — сказала я. — Грета, Грета, Грета. Прости меня, что я тебя… Ну, в общем, во все это втянула. Во все эти дела. Я пришлю тебе денег. Придет человек с деньгами, с вещами. Уезжай. Как только доктор разрешит ходить. Я тебя не могу больше видеть.
Я встала и пошла к двери.
— Барышня! — закричала Грета. — Стасечка!
Да, она меня уже так называла, я два раза к ней приходила ночью, то есть перед сном, просто поцеловать, погладить по головке.
Мне показалось даже, что она пытается встать с кровати.
Что-то упало, стеклянное или жестяное. Я не обернулась.
Выскочила наружу, примчалась домой и велела Мицци и Генриху немедленно собрать Гретины вещи, отвезти их в больницу. Я попросила папу дать Генриху побольше денег, чтобы тот расплатился с врачами и вообще все устроил: чтобы отправил девицу Мюллер восвояси. Только не к нам в имение, а куда она захочет. Главное, чтоб далеко и чтоб я не знала. С глаз долой.
Папа наблюдал за всей этой моей суетой, стоя в дверях гостиной. В тех дверях, которые соединялись с коридором, ведущим в его и дедушкину комнаты.
— Ты очень жестокая… — полусказал, полуспросил он.
— Нет, не очень, — сказала я. — Как раз вот ровно настолько, насколько надо. Поверь мне. И хватит об этом.
— Кстати! — вспомнил папа. — Ты столько раз спрашивала про наши отношения с мамой. Изумлялась, возмущалась, не верила, осуждала, жалела и все такое. Буря чувств и мыслей! — Папа даже всплеснул руками. — Но вот неделю, кажется, назад, а может, даже десять дней назад. Дай-ка я посмотрю в блокноте, когда это точно было…
— Не надо точно, — сказала я. — Ну, что там было примерно неделю назад?
— Я сказал тебе, что мы с мамой встретились и поговорили, а ты даже не поинтересовалась, как и что.
— Извини, — сказала я.
— Ты меня изумляешь! — сказал папа. — Тебе это на самом деле неинтересно?
Мне это на самом деле стало неинтересно. Однако я спросила:
— Ну что там стряслось?
— Стряслось, — сказал папа. — Кое-что стряслось. Спешу тебя обрадовать. Эти годы пошли твоей маме, а моей любимой жене, мы ведь не разведены, как ты знаешь… Она же католичка… Эти годы пошли ей на пользу. Мне кажется, она многое перечувствовала и передумала.
— «Пере-» в смысле «через» или в смысле «наоборот»? — спросила я.
— В смысле иди ты к черту! — сказал папа и замолчал обиженно.
Я пожала плечами и повернулась с мыслью идти к себе.
Честное слово, мне было не до папиных поздних любовных метаний.
— Мы решили снова жить вместе!.. — крикнул папа мне в спину. Я остановилась не оборачиваясь. — Мы решили все начать сначала. — Папин голос дрожал, трепетал и даже чуточку слезился. — Мы вспомнили нашу юность. Нашу любовь. Салоны поэтов. Ночные прогулки. Аллеи и рощи в имении. Это неразменное золото, Далли! Мы не имеем права его расточать в ссорах и разлуках.
— Вы поедете в свадебное путешествие? — Я обернулась.
— Представь себе, да! — сказал папа. — В сентябре. Во Францию.
— А мамин и твой тоже как будто сын, этот итальянец? Он будет жить тоже с вами?
— Со всеми нами! — подчеркнул папа. — Конечно, с нами. Я его еще не видел, но мама уверяет, что это обворожительный молодой человек. Впрочем, возможно, что он поедет учиться. И ты тоже.
— Что и я тоже?
— Ты тоже поедешь учиться. Мы с мамой так решили. Раз ты такая талантливая девочка. Твои учителя говорят об этом. Тебе надо дать образование. Хорошее образование. Это так современно — образованная молодая женщина. История искусств. Или, например, русская литература. Твой, как его, ах да, Яков Маркович говорит, что ты удивительно хорошо говоришь по-русски и разбираешься в тайнах русской души, как она явлена в книгах великих русских писателей. — Папа говорил как по писаному. С ним всегда такое случалось, когда он чем-то увлекался. Сейчас, очевидно, его увлекла идея спровадить меня куда подальше. — В Петербург! — сказал папа. — Или в Париж. Выбирай.
— Что-нибудь еще на «п», — сказала я. — Претория или Пенсильвания. А вообще-то черта с два. Не хочу никуда ехать. Хочу вернуться в имение и пить там чай с плюшками и вишневым вареньем. Пока все.
Но тут же я подумала, что папа, наверное, прав.
Мне надо уехать.
Вот ведь в чем дело: несмотря на все наши ссоры и взаимные насмешки — мы с ним, как ни крути, за эти почти десять лет стали самыми близкими людьми. И я, хотя была его дочерью, была для него единственной и самой близкой женщиной за эти годы. Я не знаю, бегал ли он на конюшню в имении, ездил ли он к актрисам в Штефанбурге. Ну, допустим, что да. Это неважно. Это полнейшая чепуха. Его единственной любимой женщиной все это время была я. Почти такая же злая и капризная, такая же непонятная, непредсказуемая, но зато такая же умная, проницательная, начитанная, разговорчивая, с такими же потрясающими фантазиями, как бросившая его жена. То есть как моя мама. И вот теперь они с мамой сошлись снова. Или собираются сойтись. Не могут быть у одного мужчины две любимых женщины в одном доме. Это, ей-богу, какой-то разврат. Или прямая дорожка в сумасшедший дом. Так что папа прав, разумеется. Хотя мне от его правоты не легче.
Поэтому я сказала:
— Впрочем, ладно. У меня есть время подумать?
— О чем? — спросил папа.
— Выбрать: Париж или Петербург, — ответила я. — Вы, я надеюсь…
Я хотела спросить: «Вы меня обеспечите как следует? Чтобы я могла снять хорошую квартиру в Париже или Петербурге, нанять прислугу, ходить в театры, я уж не говорю о плате за обучение и книги — это как бы само собой разумеется». Но осеклась, подумав, что это было бы слишком бессердечно — задавать такие вопросы в столь важный момент, и поэтому продолжила:
— Вы, я надеюсь, устроите что-то вроде семейного ужина? Чтобы мы наконец все вместе посидели, поговорили о будущем нашей семьи. Чтоб я наконец могла увидеть вас — веселых и счастливых