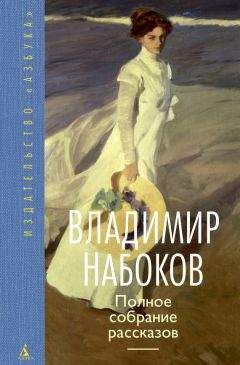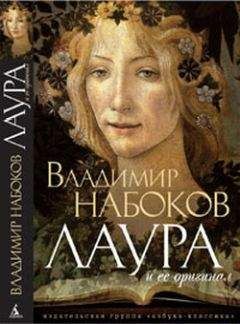У личности Сивиллы, говорила она, был радужный край, словно бы она была немного не в фокусе. Она сказала, что, если б я знал Сивиллу покороче, я сразу бы увидел, до чего «аура» мелких происшествий была в ее духе, время от времени обволакивая ее, т. е. Цинтии, жизнь после самоубийства Сивиллы. С тех самых пор, что они лишились матери, они хотели продать свой бостонский дом и переехать в Нью-Йорк, где, как им казалось, живопись Цинтии скорее получит должное признание; но старый этот дом вцепился в них всеми своими плюшевыми щупальцами. Но вот Сивилла по смерти взялась отлучить дом от окружающего его ландшафта, что убийственно сказывается на самом ощущении своего дома. Прямо напротив, на другой стороне узкой улочки, затеялось шумное, безобразное, обросшее лесами строительство. Тою же весной умерла чета давних знакомцев-тополей, превратившихся в побелевшие скелеты. Пришли рабочие и взломали красивый, теплого цвета, старый троттуар, что отливал особенной лиловизной в апрельскую мокредь и так незабываемо отзывался на утренние шаги идущего в музей г-на Ливера, который, удалившись от дел в шестьдесят лет, посвятил еще четверть века исключительно изучению улиток.
Говоря о стариках, следует прибавить, что порою этот посмертный надзор и вмешательство в дела живых принимали вид пародии. Цинтия когда-то была в приятельских отношениях с чудаковатым библиотекарем по имени Порлок, который в последние годы своей покрытой слоем пыли жизни просматривал старинные книги, разыскивая в них такие магические опечатки, как «L» вместо второго «H» в слове «HITHER»[112]. В противуположность Цинтии он был чужд восторгам темных предсказаний; его занимала сама аномалия, нечаянность, имитирующая неслучайность, изъян, кажущийся зияньем[113]; и Цинтия, гораздо более извращенная любительница изувеченных или беззаконно соединенных слов, каламбуров, логогрифов и так далее, помогала бедному сумасброду в розысках, которые, судя по приведенному ею примеру, представлялись мне с вероятностной точки зрения безумием. Как бы то ни было, по ее словам, на третий день после его смерти она читала какой-то журнал, и когда ей попалась на глаза цитата из одной безсмертной поэмы (которую она, вслед за другими столь же наивными читателями, полагала и в самом деле сочиненной во сне), ее осенило, что слово «Alph» содержало пророческое сочетание начальных букв Анны Ливии Плюрабель (название другой священной реки, протекающей через еще один мнимый сон[114] — или, вернее, огибающей его), с добавочной «h», которая, подобно путеводному знаку, понятному только посвященным, скромно указывала на столь поразившее г-на Порлока слово. Наконец, жалею, что не могу вспомнить того романа или разсказа (какого-то современного писателя, если не ошибаюсь), в последнем абзаце которого первые буквы слов неведомо для автора складывались, согласно истолкованию Цинтии, в послание от его покойной матери.
5
Как это ни грустно, Цинтия не довольствовалась этими хитроумными фантазиями и имела дурацкое пристрастие к спиритизму. Я отказывался сопровождать ее на сеансы, в которых участвовали платные медиумы: слишком хорошо я был осведомлен о подобного рода вещах по другим источникам. Я, однако, согласился присутствовать на маленьких фарсах, устраивавшихся Цинтией и двумя ее каменнолицыми кавалерами из типографии. Эти учтивые, пожилые господа с толстенькими брюшками производили жутковатое впечатление, но я был доволен уже тем, что они были сравнительно остроумны и образованы. Мы сели за легкий столик и не успели коснуться его кончиками пальцев, как началось потрескиванье и подрагиванье. Меня потчевали большим разнообразием духов, которые очень охотно отбарабанивали свои отчеты, хотя и отказывались объясниться, если я чего-нибудь недопонимал. Явился Оскар Вайльд и французской скороговоркой, изобиловавшей ошибками и обычными англицизмами, невнятно обвинил покойных родителей Цинтии в чем-то, что в моих записях фигурирует как «плагиатизм»[115]. Один назойливый дух поведал непрошенные сведения о том, что он, Джон Мур, и его брат Биль были углекопами в Колорадо и погибли при обвале шахты «Горная красавица»[116] в январе 1883 года. Фредерик Майерс[117], набивший в этой игре руку, оттараторил стихотворение (до странного напоминающее собственные случайные стишки Цинтии), которое я отчасти записал:
Кролик из цилиндра? Ловкость рук —
или блик, с изъяном, но действительный?
Разорвет ли он порочный круг,
и развеет ли кошмар томительный?
Наконец, в сопровождении ужасного грохота, при судорожном вихлянии стола, нашу небольшую компанию посетил Лев Толстой, и, когда его попросили подтвердить, что это он самый и есть, посредством какой-нибудь отличительной особенности земного обихода, он пустился в сложные описания каких-то видов русской деревянной архитектуры, что ли («фигуры на досках: человек, конь, петух, человек, конь, петух»), что было непросто записывать, трудно понять и невозможно удостоверить[118].
Я присутствовал еще на двух-трех сеансах, которые были еще того глупее, но, признаюсь, я предпочитал доставляемое ими детское развлечение и подаваемый во время оного сидр (Толстобрюшкин и Толстопузин были трезвенники) несносным домашним вечеринкам Цинтии.
Она устраивала их в милой соседской квартире Вилеров — что отвечало ее центробежной натуре; но и то сказать, собственная ее гостиная всегда выглядела как старая неотмытая палитра. Следуя варварскому, нечистоплотному и развратному обычаю, тихий плешивый Боб Вилер относил пальто гостей, еще теплые внутри, в святилище опрятной спальни и сваливал их в кучу на супружеской постели. Он к тому же разливал напитки, которые разносил молодой фотограф, а Цинтия с г-жой Вилер между тем занимались приготовлением бутербродов.
У опоздавшего создавалось впечатление, что собралась громогласная толпа людей, неизвестно для чего сгрудившихся в синем от дыма пространстве меж двух зеркал, переполненных отражениями. Вероятно, вследствие того, что Цинтии хотелось быть моложе всех в комнате, она всегда приглашала женщин, все равно, замужних или нет, которым в лучшем случае было очень далеко за сорок; иные из них приносили с собою из дому, в темных таксомоторах, нетронутые следы красивой наружности, которые они, однако, в продолжение вечера утрачивали. Никогда не устану поражаться способности общительных завсегдатаев субботних пирушек чисто эмпирически, но очень точно и очень быстро, находить общий знаменатель опьянения, которого они строго держатся до тех пор, пока сообща не опустятся на следующий уровень. В пряной любезности дам появлялись озорные нотки, между тем как в себя обращенный, неподвижный взгляд благодушно подвыпивших мужчин казался кощунственной пародией беременности. Хотя некоторые из гостей были так или иначе прикосновенны к миру искусства, не бывало тут ни вдохновенных речей, ни подпертых рукою голов в венках, не говоря уже о флейтистках. Цинтия сидела на выцветшем ковре в какой-нибудь стратегической точке, в обществе одного-двух мужчин помоложе в позе выброшенной на сушу наяды, с лицом, точно лаком покрытым пленкой блестящего пота, и оттуда подползала на коленях, одной рукой протягивая блюдо с орешками, другой звучно хлопая по атлетической ноге не то Кокрана, не то Коркорана — торговца картинами, удобно устроившегося на перлово-сером диване между двумя возбужденными, радостно распадающимися на составные части дамами.
На следующей стадии начинались всплески веселья более буйного. Коркоран или Коранский хватал Цинтию или другую проходящую женщину за плечо и уводил ее в угол, где донимал ее ухмыляющейся мешаниной приватных шуточек и сплетен, после чего она, со смехом тряхнув головой, вырывалась. Еще позже то тут, то там стало позволяться фамильярное обращение между полами, пошли шутовские примирения, чья-нибудь мясистая, голая рука обвивалась вокруг талии чужого мужа (стоящего очень прямо посреди заходившей под ногами комнаты), и кто-то внезапно разражался кокетливым гневом, кто-то кого-то неуклюже преследовал — между тем как Боб Вилер со спокойной полу-улыбкой подбирал бокалы, которые как грибы появлялись в тени стульев.
После очередной подобной вечеринки я написал Цинтии совершенно безобидное и в сущности доброжелательное письмо, в котором слегка подтрунивал в романском духе над некоторыми из ее гостей. Кроме того, я просил прощения за то, что не прикоснулся к ее виски, сказав, что, будучи французом, предпочитаю злакам лозу. Через несколько дней я увидел ее на ступеньках Публичной библиотеки, под солнцем, брызнувшим в просвет тучи; шел несильный ливень, и она пыталась раскрыть янтарного цвета зонтик и в то же время не выронить зажатые под-мышкой книги (которые я взял у нее, чтобы облегчитъ ношу) — «На краю мира иного» Роберта Дейля Овена и нечто о «Спиритизме и Христианстве» — как вдруг, ни с того ни с сего, она разразилась обвинительной тирадой, грубой, горячей, язвящей, говоря — сквозь грушевидные капли редкого дождя — что я сухарь и сноб; что я вижу одни только жесты и личины людей; что Коркоран спас двух утопающих в двух разных океанах — по совпадению обоих звали Коркоранами, но это не имеет значения; что у егозы и трещотки Джоаны Винтер маленькой дочери через несколько месяцев гросит полная слепота; и что женщина в зеленом платье с веснущатой грудью, с которой я каким-то образом обошелся высокомерно, написала лучший американский роман за 1932 год. Странная Цинтия! Мне разсказывали, что она может быть громогласно груба с теми, к кому расположена и кого уважает; однако нужно было где-то провести границу, и так как к тому времени я уже достаточно изучил ее курьезные ауры и прочие шуры-муры, то я решил с нею больше не встречаться.