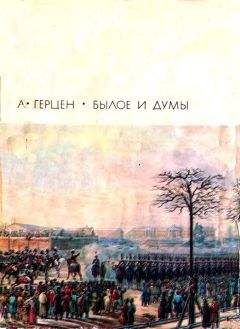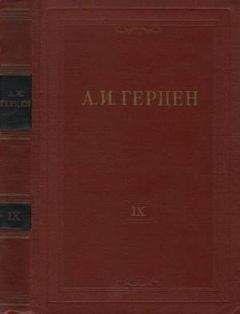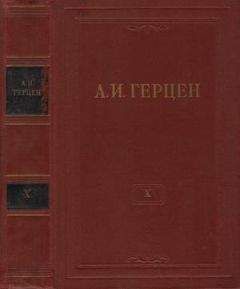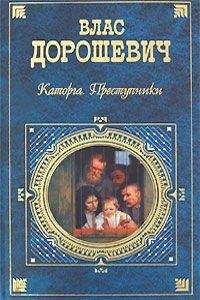— Оставь, оставь меня, сатана!
И кинул в огонь все рукописи, которые лежали на полу около его кресла.
— Возьми, возьми своё, сатана! И оставь, оставь меня!
И полный ужаса пред сатаной, который наполнял его душу, — Человек, жалкий, великий, несчастный, избранник небес, рыдал, стоя на коленях, молился, дрожал.
— Оставь, оставь меня, сатана!
А сатана был его талант.
Цыплёнок (Восточная сказка)[1]
Это было в Индии.
В Индии, где боги ближе к земле, и от их благодатного дыхания на земле случаются чудеса.
Такое чудо случилось в Пенджабе. Жил-был в Пенджабе великий раджа. Премудрый и славный.
От Ганга до Инда гремела слава его. Даже далёкие страны наполнялись благоуханием его ума.
Из далёких стран сходились люди послушать его мудрости.
Божество сходило к нему и беседовало с ним, и говорило его устами народу. И он всех принимал под тенью развесистого баобаба.
Он был богат и могуч, но оставил всё и удалился в лес, и поселился там, далеко от людей и близко к божеству.
Целыми днями он стоял на коленях, устремив к небу восторженный взор.
И видел он в голубой эмали божество, доброе и грустное, с печалью и любовью смотревшее на землю. Когда же приходил кто, старый раджа прерывал для него своё созерцание божества и беседовал с пришедшим, пока тот хотел. И обращались к нему с вопросами, сомнениями все, кто хотел.
Кругом кипели войны, совершались насилия, носилось горе, — и на всё, как эхо, откликался из глубины леса страдавший и молившийся старый раджа.
Его голос то гремел, как раскаты небесного грома, то проносился, как проносится по цветам лёгкое дыханье весеннего ветерка.
Грозный к сильным, полный любви к слабым.
И звали мудреца индусы:
— Великая Совесть.
Так жил в глубине леса старый, ушедший от всех благ мира раджа.
У него были враги.
Они кричали:
— Зачем он ушёл от мира и не живёт, как прилично радже?!
— Он делает это ради славы!
— Из лицемерья!
— Он пресытился!
И были около него хуже, чем враги, — его ученики.
Они тоже бросили всё. Хотя им нечего было бросать.
Они тоже отказались от всего. Хотя им не от чего было отказываться. Они жили также под сенью окрестных деревьев, выбирая для этого баобабы, — потому что великий учитель жил под баобабом.
Они носили лохмотья, которые тлели у них на теле.
Они ползали на брюхе, боясь раздавить ногой насекомое в траве.
Встречаясь с муравьём, они останавливались, чтобы дать ему время уползти с их пути и не задавить его. И считали себя святыми, потому что, дыша, закрывали рот рукою, чтобы нечаянно не проглотить и не лишить жизни маленькой мошки.
Подражая великому учителю, они также целыми днями стояли на коленях и смотрели, не отрываясь, вверх, хотя он видел в небе божество, а они видели только кончик своего носа.
И вот однажды учёный раджа заболел. Смутились все кругом, что уйдёт из мира Великая Совесть, и бросились к инглезским врачам с мольбою:
— Спасите нам его.
Инглезские врачи, посоветовавшись с их мудростью, сказали:
— Старый раджа истощён. Возьмите цыплёнка, сварите его и дайте пить больному. Это подкрепит его силы.
Сейчас же принесли цыплёнка.
Но факиры закричали голосами, дикими, как вой шакалов:
— Что? Не он ли, когда голод изнурял нас, отдавал свой рис муравьям, потому что и муравьи в голодный год голодны также. Не он ли говорил: «Не убивайте». И вы хотите напоить кровью его сердце. Убить живое существо, чтобы спасти его.
— Но он умрёт.
— Но мы не допустим убийства!
И старый раджа умер.
А цыплёнок остался жив.
Боги близко живут к земле в великой таинственной Индии.
Увидав то, что происходило, Магадэва улыбнулся печальной-печальной улыбкой и вычеркнул завет, что начертал на золотой доске:
— Не поклоняйся идолу…
И написал с грустной улыбкой:
— Не поклоняйся цыплёнку.
Толстой и сегодняшний день
Вдали от «всякого другого жилья», около бочки, лежал на песке голый грек и грелся на припёке.
К нему с блестящей свитой подъехал царь.
Царь спросил:
— Не могу ли я что-нибудь для тебя сделать?
Грек посмотрел на стоявшую перед ним пышную толпу, вероятно, так, как мы смотрим на пёстро оперённых птиц, — с любопытством, но без зависти.
И ответил:
— Отодвинься немного от солнца.
Вероятно, многие из присутствовавших тогда с удивлением пожали плечами.
Через много-много сот лет пожал плечами и я, думая как-то случайно об этом эпизоде, случившемся так далеко и давно.
Неужели Диоген, действительно, ничего не мог попросить у Александра?
Неужели он не знал ни одного несправедливо обвинённого и не мог попросить за него царя?
Неужели в Греции все были так счастливы? И не было ни одного несчастного, чтоб сказать царю:
— Помоги ему!
Он мог бы, пользуясь царским словом, спросить несколько «талантов» и сделать на них много-много добра.
Конечно.
Только тогда он не был бы Диогеном…
К Л. Н. Толстому обращаются с вопросами:
— Что он думает о войне?
— Что он думает о той или другой форме правления?
— Что он думает о тех или других способах борьбы?
Мне кажется, что Толстой должен испытывать то же, что он испытывал, когда в Крыму к нему обратилась одна англичанка…
Не знаю, анекдот это или факт.
Говорят, что в Гаспре к Льву Николаевичу явилась целая компания туристов-англичан.
Среди них была одна дама, которая попросила карточку у великого писателя:
— Я с таким восторгом читала ваши произведения!
Лев Николаевич спросил:
— Какие же именно?
Любительница великих людей и их карточек не знала ни одного…
Я понимаю ещё, что русский человек может обращаться к Толстому со всеми этими вопросами.
Живя в России, конечно, нельзя знать Толстого.
Но совершенно непонятно, как человек может ехать из Парижа, чтобы «интервьюировать» Толстого по этим вопросам, как можно посылать ему телеграммы с уплаченным ответом «на сто слов» из Америки?
Слово из Америки стоит рубль.
Гораздо дешевле послать в ближайшую книжную лавку и купить сочинения Толстого.
Ездить, телеграфировать. Можно ли так бесполезно тратить время и деньги?
И, отправляясь к писателю, обнаруживать такое глубокое незнакомство с его произведениями?
Если бы французский журналист, отправляясь из Парижа в Ясную Поляну, купил себе на дорогу что-нибудь из произведений Толстого, — он вернулся бы обратно, не доехав до Эйдкунена.
Обратиться к Толстому с вопросом:
— Как нам лучше устроить нашу культурную жизнь?
Если бы Толстой был зол, — он подарил бы спрашивающему «Рабство нашего времени».
Я жил за границей, когда, — сразу на всех европейских языках, — вышла эта книга.
Я жил тогда в старом городе Франкфурте-на-Майне.
Зимою. Гулял по его средневековым узеньким улицам, с нависшими над головой выступами верхних этажей. Мимо покрытых инеем статуй Гуттенберга и Берне. Просиживал свободное время в маленькой «классной комнате», где Гёте написал пролог к «Фаусту».
Здесь «Der Geist»[2] беседовал «mit dem Teufel»[3].
И доставлял себе высокое удовольствие, которое — увы! — можно доставить себе только за границей. Читал параллельно «Женщину» Бебеля и «Рабство нашего времени» Толстого.
— Прежняя форма рабства исчезла, — говорит Толстой, — за ненадобностью. Есть иное средство превращать людей в рабов, на каком угодно расстоянии. Это — деньги.
— Капитал — орудие рабства, — говорит Бебель.
— Вся так называемая культура держится на рабстве! — говорит Толстой. — Деньгами одни заставляют других на себя работать!
То же говорит Бебель:
— Вся теперешняя культура держится на рабстве, и рабство держится при помощи денег.
И оба мечтают о том времени, когда этой несправедливости, этих «принудительных работ» не будет.
Так в полном согласии они доходят до… выгребной ямы.
Перед выгребной ямой они останавливаются и от выгребной ямы расходятся в разные стороны.
Вы найдёте, быть может, тон шутливым по отношению к Толстому? Ведь нынче нет читателя, — все цензоры!
Но, свободный в мысли и духе, даже перед Толстым зачем я буду стоять на коленях? Я предпочитаю улыбаться тем, кого люблю.
Толстой говорит:
— Ну, а кто, — при новом, каком бы то ни было, порядке вещей, — захочет заниматься грязной и отвратительной работой? Чистить, например, выгребную яму? Добровольно, конечно, никто не захочет! Следовательно, придётся же найти какие-нибудь средства принуждать одних делать то, чего не хотят делать другие. А принудительные работы — рабство. Следовательно, раз будет существовать культура, — будет и рабство.