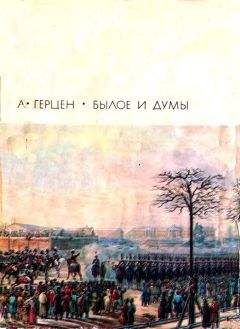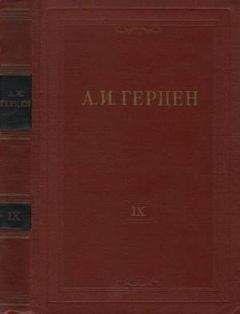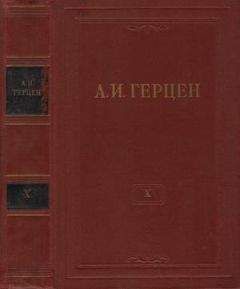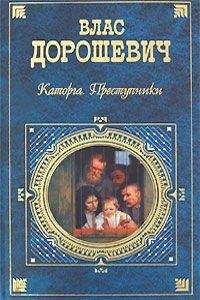Верны ли его знания? Или он заблуждается, считая свои знания верными?
Но он так думает, он в этом убеждён, он так верит. И его долг сказать то, что он думает, только то, во что он верит.
Позвольте кончить тем, с чего я начал.
Было бы превосходно, если б Диоген ответил Александру:
— Дай мне столько-то денег.
Он мог бы раздать их беднейшим жителям города, Сделать несколько добрых дел.
Только тогда не было бы Диогена.
Не было бы этого образа, — голого грека, лежащего на песке около бочки и отвечающего даже Александру Македонскому:
— Всё, что ты можешь сделать для человека, это — посторониться от солнца!
И этот образ не заставлял бы задумываться поколения и поколения и не освещал бы ярким ироническим светом вздорность и пустоту всего, кроме свободы духа.
Было бы в тот вечер несколько сытых греков, которые на утро были бы снова голодны. И исчезла бы из истории человечества фигура Диогена.
Было бы это хорошо? Не было бы это потерей?
Я очень боюсь, что какой-нибудь придирчивый читатель, — с тех пор, как стали говорить о свободе, стали все придирчивы, — боюсь, что придирчивый читатель скажет:
— Что это? Вы, кажется, «защищаете» Толстого?
Избави Боже.
Я ещё не сошёл с ума и не собираюсь загораживать Монблана от ветра своей спиной.
Но в последнее время, по поводу телеграмм, ответов на вопросы «сегодняшнего дня», столько приходится слышать о Толстом, что мне хотелось поделиться на эту тему своими мыслями.
И сказать и радующимся, и опечаленным, и негодующим, — есть даже и такие:
— Господа. Нет оснований ни радоваться ни печалиться. А негодование уж совсем запоздало. На несколько десятков лет.
Если что-нибудь в словах Толстого показалось вам сюрпризом, — виноват не он и не вы, а то, что его книги, обойдя весь мир, не могут никак переехать только маленького расстояния:
— От Эйдкунена до Вержболова.
В Спасском тупичке у Спесивцева шла стройка. Принялись заколачивать сваи.
Ранним утром, весенним, свежим и солнечным, в тупичке раздалась песня.
Тупичок был тихий переулок.
Про тупичок его жители с гордостью говорили:
— Тише нашего проулка не найтить!
Жили в нём мастерки-хозяйчики, портные, сапожники, мелкий слесарь, столяр, маленькие железнодорожные служащие.
Деньги за квартиры и комнаты платили «по прошествии», с трудом. Жили — бились и всю жизнь были кругом должны.
Все работали по своим углам, как колёсики в часовом механизме, и жизнь в тупичке шла, как часы, не отставая и не торопясь.
Когда у тупичковских обывателей спрашивали:
— Ну, как поживаете?
Они отвечали:
— Живём ровно!
Именно, как заведённая машина. Пётр Евстигнеевич на службу пошёл, — значит, восемь часов. Сапожников мальчишка за хлебом побег, — значит час скоро. Василий Терентьевич со службы идёт, ко щам поторапливается, — значит четыре уж било.
Если мальчишка бежал уж очень шибко или на ходу через тумбы прыгал, посторонние считали долгом в окно постучать и пальцем погрозиться:
— Что ты, пострел, озорничаешь?
Такой в тупичке был порядок.
С утра садились за работу, перед вечером весной и летом выходили посидеть к воротам и говорили про житейское.
По праздникам, случалось, пили.
— На то и праздник!
Но если кто выходил из колеи и напивался в будни, — того осуждали вечером, сидя у ворот, «даже удивлялись»:
— Как только домовладелец такого терпит?!
Такие случаи помнились долго, и по ним определялось время.
— Это было… Когда, бишь? Да в позапрошлом месяце, ещё когда Варсонофьев сапожник запил!
— Ну, вот! Когда Варсонофьев пил! Это было когда Панкратьев с женой скандалил!
За временем, вообще, в тупичке наблюдали плохо.
Вечно спрашивали:
— А какой, бишь, нынче день?
Но за порядком следили строго.
Петь песни в будни считалось не только зазорно, — но и грехом.
— Чай, будни!
И вдруг в тупичке в будни раздалась песня.
Пришли на Спесивцев двор золоторотцы, оборванные, ободранные, грязные, в опорках, и принялись под песню бить сваю.
Запевал высоким-высоким, тонким фальцетом, обдёрганный, из золоторотцев золоторец, — для того артелью и выбранный.
И такие сочинял запевки, что золоторотцы ржали.
— Чисто лошади! — плевались женщины, закрывая окна.
И неслась эта заухабистая песня по тихому и смирному тупичку.
— Хоть бы скорее у Спесивцева это безобразие кончилось! — говорили другие домовладельцы.
Кончилось это для тупичка даже трагедией.
Соловьёвский сын, башмачник, молодой малый, слушал-слушал, как золоторотцы с песнями сваи бьют, смотрел-смотрел на них, ободранных и озорных, — да сам в золоторотцы и ушёл.
Весь тупичок жалел:
— А какой парень-то был! Золото! День-деньской, бывало, не разгибаясь, сидел!
И весь покой тупичка был нарушен.
Мальчишку за чем пошлёшь, — мальчишка на золоторотцев смотреть забежит, на два часа пропадёт.
Сам мастер пойдёт заказ относить, у Спесивцева дома остановится.
Жена дома беспокоится: «не запил бы».
— Куда на целый день пропал?
— Так. На золотую роту посмеяться остановился.
— И житьё этим золоторотцам! — говорили мастера, прислушиваясь к песне.
— Известно, золотая рота! Вольное житьё! Ни заботы, ни печали, ни воздыханья! Заработал — пей. Пьян — лежи.
— Сам себе хозяин.
— А тут…
И шут их знает, — какие мысли неслись по тупичку с вольной песней.
Только бабы сердились и посматривали на мужей подозрительно:
— Заслушался! Музыка!
И закрывали окна.
— Чего окно-то закрываешь? Пущай!
— Не слыхал пьяных бездомников-то?!
В один желанный день ещё мертвее, унылее стало в переулке.
Золоторотцы, с вольною песнею, с гомоном, с шумом, — снялись и исчезли. Куда-то в другое место.
Словно птицы.
— Слава Те, Господи! — с облегчением вздохнули бабы.
Мастера с прежним рвением принялись за работу.
Не стало разгульной песни.
— Не мешают, по крайности!
И осуждали их и ругали их, а слушали.
Слушали, слушали.
И что-то странное просыпалось в душе…
Так гуси, степенные и жирные, откормленные на убой, вдруг вытягивают шеи, поднимают к небу головы, принимаются махать крыльями и гоготать.
Что случилось?
В синем небе, словно паутина, пронеслась стая серых, диких, — поджарых, голодных, но вольных гусей.
И в воздухе зазвенел их крик, жалобный на стон похожий, — но вольный.
И загоготали, всполошились домашние гуси, сытые, жирные, замахали бессильными крыльями.
Зависть слышится в этом гоготе.
Зависть к серым, диким, — поджарым, голодным, но вольным гусям.
Когда вы читаете Горького, мой степенный, спокойный, уравновешенный читатель, — не кажется ли вам, что где-то там, над вашей головой, высоко-высоко, шумя крыльями, пролетает стая серых, диких, — голодных, но вольных гусей?
И вы слышите плеск их крыльев, — и в воздухе дрожит их крик. Печальный, на стон похожий, — но вольный.
Вольный!
Что такое Горький?
Когда я читаю Горького, — мне представляется тюрьма.
Поверка уж кончена. Двери заперли. Но спать рано. А говорить не про что: всё переговорено людьми, обречёнными жить вместе.
И вот из тёмного угла раздаётся голос. Тюремный рассказчик «заводит своё».
Он начинает всегда с тяжёлого вздоха, иронически и вместе с тем грустно.
— И какой, я посмотрю, — ноне арестант пошёл! Нешто это арестант?
Он снова вздыхает и делает паузу.
— Нет арестанта!
Новый вздох.
— Вот Евстигнеев был. Вот это арестант!
И он начинает рассказывать про Евстигнеева чудеса.
Вот арестант! Вот бы такого арестанта!
Кто сел на нарах. Кто приподнял голову со сложенного вчетверо бушлата. Все слушают.
Слушают жадно.
Вот арестант! Вот арестант! Вот это, можно. сказать, — так арестант!
А посмотрите вы этого Евстигнеева. Он сидит в другой камере.
Так, — плёвый мужичонка и обыкновенный жулик. «Мухи, — и те на него садятся», по тюремному выражению. Бьёт его, кто хочет, делают с ним, что хотят. Терпит и сносит!
Вот вам и герой.
Евстигнеев-то герой? Что он сделал? Так как-то, невзначай, нагрубил начальству.
И то давно было.
Да жизнь-то так сера, так уныла, так однообразно тосклива, — что хочется, нужно, чтоб Евстигнеев был героем. Чтоб ярким был героем! Хоть глазу-то на чём-нибудь отдохнуть. Всё кругом так серо, так безнадёжно серо…
И эти рассказчики, в фантазии которых Евстигнеевы становятся героями, — как они ценятся тюрьмой!
— На муху, сударь вы мой, смотрю с завистью! — говорил мне один старый каторжник. — Летает-с! И муха мне орлом кажется!