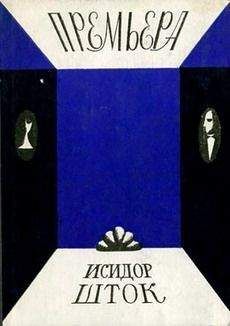От этой сбивчивой, задыхающейся скороговорки (президента Академии наук КНР!), от этого стариковского бормотанья веет смертельным страхом - перед застенком, перед толпой озверевших подростков-штурмовиков. А мы говорим иногда, что Оруэлл утрировал ситуацию. Заметьте: он предусмотрел ее для своей родной цивилизованной Англии, а не для черной Африки...
А это - Юрий Олеша. Здесь как будто нет потери собственного достоинства: здесь все искренне. Но тем более страшно и горько... видеть, как дар художника корчится на аутодафе, зажженном в его собственном мозге: "И вот сейчас возник вопрос, в который упираешься, что называется, лбом, - вопрос о перестройке, вопрос о приобретении ленинско-марксистского понимания жизни. Я хочу перестроиться.
Конечно, мне очень противно, чрезвычайно противно быть интеллигентом. Это слабость, от которой я хочу отказаться. Я хочу отказаться от всего, что во мне есть, и прежде всего от этой слабости. Я хочу свежей артериальной крови, и я ее найду. У меня поседели волосы рано, потому что я был слабым. И я мечтаю страстно, до воя, о силе, которая должна быть в художнике, которым я хочу быть".
Послушайте, может быть, это издевательство? Может быть, это чудовищный гротеск в форме авторского монолога? Ведь Олеша был таким тонким стилистом! Не будем обольщаться. Ниже - мольба о доверии, об отсрочке, о праве "перестраиваться" самостоятельно, по своему разумению: "Я, конечно, перестроюсь, но как у нас делается перестройка? Вырываются глаза у попутчика и в пустые орбиты вставляются глаза пролетария. Сегодня - глаза Демьяна Бедного, завтра - глаза Афиногенова, и оказывается, глаза Афиногенова - с некоторым изъяном... Я сам найду путь, без кондуктора... Я себя считаю пролетарским писателем. Может быть, через тридцать лет меня будут читать как настоящего пролетарского писателя".
Бог миловал: через тридцать лет его начали читать снова - как незабываемого Олешу, "Зависть" которого так и осталась не панегириком номенклатурному "пролетарию", а горьким реквиемом российскому интеллигенту...
Было отчего умереть. Он не умер, убив себя, но большая часть того, что ему удалось опубликовать, изуродована авторским насилием над самим собой и цензурой, как ноги красавицы китаянки - бинтами...
Потом появился самиздат, которого до второй половины 50-х годов почти не было. Но до нелегальности надо дозреть, решиться на нее, переступить через свою естественную законопослушность, через инстинкт самосохранения, не говоря уж о технической трудности нелегальных действий в условиях такой диктатуры. Пока же человек до нелегальности и - тем более - до открытого сопротивления не дозрел и борьба идет только внутри сознания, он подчинен диктатуре и разделяет ее деяния, активно или пассивно..."
Все эти и многие другие здесь не приведенные отрывки из произведений и высказываний советских писателей в моей книге "Наш новый мир. Теория. Эксперимент. Результат" (1968, 1972 - самиздат; 1981, 1986 - зарубежные издания) снабжены точными библиографическими ссылками. В упомянутой выше книге, разумеется, все куда более проработанно, чем в косноязычных и противоречивых юношеских заметках с их прямолинейным социологизмом. Но, во-первых, здесь продолжает развиваться та же тема. А во-вторых, была в тогдашнем нашем косноязычии ныне утраченная неподдельная свежесть - веяние наивности и непосредственности. Мы не резюмировали и не резонерствовали - мы жили.
Но мы еще и не позволяли себе додумывать до конца. Чаще же не умели додумать, не были в состоянии понять всей глубины и обоснованности сомнений, одолевавших наших любимых художников. Мы еще и поучали их большей цельности, большей последовательности в желании и готовности обмануться. Но до чего трудно было себя обманывать:
"Исследователь (то есть я. - Д. Ш., 1993) оправдывает лицемерие догмы и пороки системы как единственную возможность оградить от внешней и внутренней враждебности, защитить и сделать жизнеспособным прогрессивный социально-экономический строй. Без сомнения, идеальная государственная система, отвечающая требованиям исследователя и выполняющая все обещания революции, под действием сил прямой враждебности и бессознательной инерции обречена была бы на славную смерть.
Исследователь успокаивается на том, что если главный социально-экономический сдвиг (уничтожение частной собственности) сохранен, то все отклонения, сознательные и бессознательные, будут со временем выровнены. Возникает формула "правда сроков" ("отсрочка правды"), возникает ссылка на историческую закономерность, на "весь циферблат", на "красоту с катастрофами".
На этом исследователь останавливается. Все то, чего он не смог оправдать, он относит за счет своей подозрительности и своей слепоты. Роль раскрывателей его формул оставлена следующему поколению (слава Богу: кое что успело сделать и наше. - Д. Ш., 1993).
Являясь, по сути дела, вопросом (как же осуществится "правда сроков"?), формула эта оставляет в создавшем ее художнике глухую тоску и неудовлетворенность. Пастернак о Кавказе:
И в эту красоту уставясь
Глазами бравших край бригад,
Какую ощутил я зависть
К наглядности таких преград!
О, если б нам подобный случай,
И из времен, как сквозь туман,
На нас смотрел такой же кручей
Наш день, наш генеральный план!
Передо мною днем и ночью
Шагала бы его пята.
Он мял бы дождь моих пророчеств
Подошвой своего хребта. (Выделено теперь. - Д. Ш., 1993)
Ни с кем не надо было б грызться,
Не заподозренный никем,
Я, вместо жизни виршеписца,
Повел бы жизнь самих поэм".
А сразу же после стихов Пастернака посредине строки мною крупными буквами было написано: "ГАМЛЕТ?!"
Ума не приложу: как мне тогда мог привидеться сквозь все завесы собственной слепоты и времени поздний пастернаковский Гамлет ("Гул затих. Я вышел на подмостки...")? Такова, очевидно, магия пастернаковского стиха. Для меня нынешней это вопросительное восклицание оказалось полнейшей неожиданностью. А за Гамлетом следовало:
"О каких преградах идет здесь речь? О преградах, мешающих принятию окружающего или дающих поэту право сражаться с системой? Последнее - вряд ли. Скорее поэт ждет от преград не оправдания, а отклонения его пророчеств тревожных пророчеств неблагополучия. Скорее всего поэт жаждет наглядных преград, разрушив которые можно было бы разом отбросить все не дающие ему покоя отступления от идеала и все компромиссы...
Маяковский, обрушиваясь на прямых врагов и на все то, "что в нас ушедшим рабьим вбито", знал, кого обличать. Прав он был в этом или не прав... А Пастернак вынужден тосковать о наглядности преград, которые дали бы ему одно из двух: уверенность в правоте его пророчеств или уверенность в правоте событий" (Выделено теперь. - Д. Ш., 1993)
А после еще нескольких страниц с отрывками из стихотворений Пастернака и их разбором следует допущение, что:
"...любое изображение этих отрицательных черт в настоящее время было бы направлено не против более или менее эпизодических частностей, враждебных системе, а против самой системы. Она же становится все более нетерпимой к любой критике, самой благонамеренной. К чему может формула "правды сроков" свестись теперь? Верить, повинуясь ей, что через некоторое время все искажения революционной правды, все отклонения от идеала, все несовершенства системы смогут быть ликвидированы ею самой и переболевшая самофальсификацией догма начнет соответствовать действительности? Если раскрыть эту формулу так, а не иначе и отнести замедление ее осуществления за счет обстоятельств или воли умного руководителя - регулятора хода общественного развития, в таком случае остается только молчать и дать всему совершающемуся идти своим порядком.
Почему так? Потому что бороться против отдельных отрицательных частностей уже бессмысленно, так как они давно перестали быть частностями...
Есть еще один выход: каждый да будет честен и добросовестен в исполнении своих служебных обязанностей, в партийном горении и в добывании хлеба насущного. Но политика малых дел споткнется о вездесущую фольклорную поговорку "блат выше Совнаркома" и превратится в пожизненную битву с ветряными мельницами (такую жизнь быстро укоротят, дружок. - Д. Ш., 1993).
Последний выход: жить так, как живут другие, исповедовать государственную идеологию и ждать, пока кто-то сильный, кто-то думающий за других найдет обстоятельства благоприятными и отменит несоответствия между догмой и истиной. И тогда получится, что лица, пришедшие к такому выводу, проявляют себя абсолютно так же, как сознательные карьеристы и божьи овцы, не подозревающие о возможности каких бы то ни было сомнений вообще. Кольцо замыкается.
Куда же исчезла из русской литературы ее традиционная критическая мысль, ее подлинная революционная направленность? Объяснить отсутствие критической мысли цензурными ограничениями невозможно: никакая цензура, никакой террор не могли подавить эту мысль на протяжении всего ее исторического развития (а когда она видела такую цензуру и такой террор, деточка? - Д. Ш., 1993).