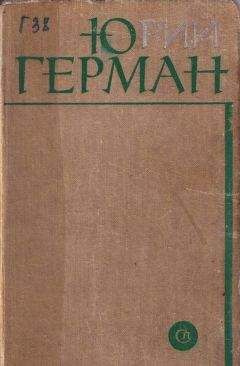- Ей-богу, целый день молчал...
- Ну и сейчас помолчи. Телевизор, сульфидин. Ой, Вася, Вася...
- Да ведь интересно, Иван Михайлович... Честное слово, расскажу не хуже радио. А вот радио вы слушаете, а Окошкина Васечку, больного человека, - не хотите...
Иван Михайлович отмахнулся. Радиодиктор с железными перекатами в голосе говорил, кто кого будет играть в пьесе, название которой Лапшин прослушал.
- Видишь, балаболка! - сказал Иван Михайлович укоризненно. - Теперь и неизвестно, что станем слушать...
- А это про посевы, - сказал Вася, - я уж знаю. В это время всегда про посевы. Один артист будет за корнеплода играть, другой - за подсолнух, третий - за сельдерей...
- Помолчи! - сказал Лапшин.
- Тут давеча без вас картошка пела, - не унимался Вася, - так жалобно, печально: "Меня надо окучивать - окучивать..." Не слыхали?
- Нет, - сказал Лапшин и лег в постель.
Он любил театр и относился к нему с той почтительностью и серьезностью, с какой вообще относятся к театру люди, не сделавшие искусство своей специальностью. Каждое посещение театра для Лапшина было праздником, и, слушая слова со сцены, он обычно искал в них серьезных и поучительных мыслей и старался эти мысли обнаружить, даже если их и вовсе не было. Если же их никак нельзя было обнаружить, то Лапшин сам выдумывал что-нибудь такое, чего хватило хотя бы на дорогу до дому, и рассуждал сам с собой, шагая по улицам. И, как многие скромные люди, он почти никогда не позволял себе вслух судить об искусстве и, если слышал, как его товарищи толкуют о кинокартине, книге или пьесе, то обычно говорил:
- Много мы, ребята, что-то понимать стали! А? Грамотные, умные! Ты поди сам книгу напиши, а я погляжу...
Но огромный жизненный опыт и знание людей волей или неволей научили его отличать жизненную правду от подделки ее искусством, и он знал и любил то ни с чем не сравнимое чувство острой радости, которое возникало в нем при соприкосновении с подлинным искусством. Тогда он ни о чем не думал и только напряженно и счастливо улыбался, глядя на сцену или на экран или читая книгу - независимо от того, трагическое или смешное он видел, и в это время на него приятно и легко было глядеть. И на следующий день он говорил в Управлении:
- Сходил я вчера в театр. Видел пьесу одну. Да-а!
И долго потом он думал о книге, или о пьесе, или о картине, что-то взвешивал, мотая своей крутолобой, упрямой головой, и опять говорил через месяц или через полгода:
- Представлен там был один старичок. Егор Булычев некто. Нет, с ним бы поговорить интересно. Я таких видал, но не догадывался. Это старичок!
И долго, внимательно глядел на собеседника зоркими голубыми глазами.
- Интересно? - спрашивал собеседник.
- Да, пожалуй что интересно, - неторопливо и неуверенно соглашался Лапшин, боясь, что слово "интересно" чем-то оскорбит пьесу, которую он видел.
По радио передавали одно действие из пьесы, о которой Лапшин довольно много слышал, но которую ему не довелось повидать. На эту пьесу устраивали культпоход, но Иван Михайлович в культпоходах не принимал участия - любил бывать в театре один, за что как-то его заклеймил Митрохин, назвав "ярко выраженным индивидуалистом". Лапшин только усмехнулся на это обвинение. Ему не нравилось в антрактах пить лимонад и болтать о постороннем. И праздник ему не удавался, если ходили вместе: слишком уж было шумно, суетно и слишком много говорили.
В нынешней пьесе речь шла о пожилом человеке, который предполагал, что умирает, заболев неизлечимой болезнью, и все-таки держался жизнерадостно, бодро и деловито. Очень многое из того, что говорил герой пьесы, раздражало Лапшина, но многое восхищало поразительной точностью изображения характера сильного и крупного, дельного и выполняющего свой долг даже на пороге смерти.
Не совсем таких, но в чем-то именно таких людей, как герой пьесы, Лапшин встречал в своей жизни немало, и сейчас, слушая по радио эту драму, Иван Михайлович вспоминал смерть своего дружка чекиста Першенко. Покойный Жора вновь ожил перед его глазами, и, слушая пьесу, Лапшин узнавал голос Жоры, его насмешливые и острые слова незадолго до смерти, когда везли Першенко в оперативном фаэтоне, смертельно раненного, в госпиталь. Тогда моросил дождь, было мозгло и холодно, и Першенко - украинец с Полтавщины сердился на то, что даже "напоследок" его солнышко не погрело, хоть он и "заработал" себе хорошее отношение тем, что схватил пулю в живот не в начале боя, а в самом конце. И ехавшие с Першенко в этот последний путь и слезы утирали, и посмеивались...
Вспоминая смерть Першенко, Иван Михайлович вдруг приподнялся и вслушался в голос нового персонажа - девушки-комсомолки, которую играла - он мгновенно узнал - та самая Катерина Васильевна Балашова, что давеча была с другими артистами в Управлении.
Разбитная, искренняя, неглупая и очень наивная девочка внезапно появилась перед Лапшиным, хотя он слышал только ее голос. Может быть, на сцене она вовсе не была такой, как виделась Лапшину, но видел он не ее, а молодую жену Першенко - Зою, видел такой, какой она вбежала тогда в госпиталь, и такой, какой была на Жориных похоронах: в кургузой кожаной куртке с бархатным воротником, длинноногая, длиннорукая, с выпавшей из-под косынки косой, не верящая в реальность смерти, не понимающая - какая это смерть, - такой видел он Зою, и такой, казалось ему, была на сцене сейчас Катерина Васильевна Балашова. И чем дальше, тем глубже захватывала Ивана Михайловича пьеса и тем ближе становились ему люди, которых изображали артисты, но которых он знал в жизни...
- Здорово играет! - размягченным голосом, лежа на своей кровати, сказал Окошкин. - Замечательно! И он тоже. Верно, Иван Михайлович?
Патрикеевна загремела тарелками, Василий на нее прикрикнул.
- Сейчас будет сцена смерти! - предупредил он.
Лапшин не ответил. Из радиорупора донесся жалобный и некрасивый плач девушки, узнавшей, что ее собеседник умер.
- Все там будем! - по-бабьи сказал Васька и закурил, чтобы не волноваться.
Спектакль кончился.
Диктор медленным голосом еще раз прочитал, кто кого играл. Комсомолку играла Балашова, артистка театра, по названию напоминающего ДЛТ - Дом ленинградской торговли.
- Важно разыграли! - сказал Васька. - Верно, Иван, Михайлович?
- Важно, - согласился Лапшин и опять вздохнул. - Как бы она ревела, сказал он, садясь на матраце, - ежели бы видела смерть настоящих людей! Умирал у меня в группе - я тогда на борьбе с бандитизмом работал, и был у меня такой паренек Ковшов, молодой еще, совсем юный, - так вот он умирал. Ну, брат...
Лапшин поискал вокруг себя на постели папиросы, закурил и стал рассказывать, как умирал Ковшов.
- А когда мы его хоронили, - говорил Лапшин, - то лошаденка по дороге на кладбище от голода пала. Понесли гроб на руках. Двое детишек осталось. А наша группа, когда банду всю повязали, постановила: от своего пайка за месяц десятую долю послать ребятам Ковшова. И вышло пятнадцать фунтов сахару-мелясу, знаешь, желтый такой? Я год назад заходил к Ковшовым, ничего живут, оба паренька работают. Чай у них пил с медом. А мамаша опять замуж вышла. И муж у нее такой ерундовский, такой пустяковый мужчина. Говорит солидно, собой доволен, кассир в банке. Конечно, кассир тоже свое дело делает, кто спорит, - можно деньги быстро считать, а можно и медленно, только за Ковшова как-то вроде неловко. Орел был, а в доме даже портрета его теперь не видно.
- Башмаков еще не износила, - сказал Окошкин.
- Башмаки-то, положим, и износила, и не одну пару, да фотографию бы все-таки следовало сохранить - для ребят хотя бы.
- А может, кассир ревнивый. Разве не бывает, Иван Михайлович? - спросил Вася. - Это же надо понять - каждый день с утра до вечера смотри на человека, который был мужем твоей жены. Я бы лично на это не пошел...
Постучал Антропов, поставил Окошкину термометр и рассказал:
- Умерла у меня нынче одна старушка. Черт его знает - и прооперировал удачно, и послеоперационный период шел нормально. Весь день хожу и места себе найти не могу. Терпеливая женщина, помучили мы ее изрядно, ничего, даже не жаловалась. Вчера подозвала меня, спрашивает: "А что, Александр Петрович, верно говорят, что в мыло перетопленное человеческое сало кладут?" Я отвечаю - конечно, не верно. Она вздохнула: "Сколько, говорит, жизни своей я погубила - и себе, и детям сама мыло делала. Хорошее - землянику клала в него или липового цвета..." Обещала мне своего мыла прислать и вдруг запятая. А?
- Бывает! - сказал Лапшин.
- Тридцать семь и семь! - значительно произнес Василий. - Привет от старушки. И как это вы, Александр Петрович, при больном человеке такие печальные истории рассказываете? Вот у меня температура и вскочила...
Лапшину стало скучно. Он взглянул на часы - было начало двенадцатого и вызвал машину.
- Куда? - спросил Василий.
- Поеду к Бочкову, - сказал Лапшин, - на квартиру. Ему баба житья не дает, надо поглядеть.