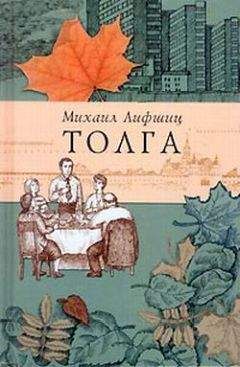ямочке, и все это с таким скучающим видом, что хочется взять ракетку и выйти на корт вместо него, чтобы он смог отправиться куда-нибудь под сень тополей — выкурить сигару, пропустить рюмку шато-лижака или орвьето со льдом. Анри — большой любитель и знаток вин.
Мы стояли у входа на корт. Эльза держалась за моей спиной в стороне. Анри засунул руки в карманы блейзера, разглядывая носки своих ботинок. Мне было непонятно, с чего он такой красный. Его отец расспрашивал меня о колене. Я все повторял, что рана не серьезная, но он как будто не верил. Завтра мне предстоит сразиться с Анри, думаю, тут и надо искать истинную причину любопытства комиссара. Он уважает и любит меня, и доказал это не раз, точнее, два раза — прошлым и позапрошлым летом, однако будет не против, если его сын побьет меня. Мой напускной оптимизм разочаровал его, и он отправился в комиссариат. Я обернулся к Эльзе:
— Ты увлеклась теннисом?
Она пожала плечами.
— Тогда что ты тут делаешь?
— Я пришла из-за него, — ответила она, указав пальцем на Анри.
— Вы знакомы?
— Нет. Я только сегодня увидела его на улице. И нашла, что он лучше всех. Пошла за ним. Но он не желает со мной разговаривать. Ведет себя так, словно меня здесь нет. Что, не так?
Она обращалась к Анри, который до того налился кровью, что мне подумалось: сейчас он лопнет и разлетится на тысячи осколков.
— Представь нас друг другу, — попросила Эльза и сама назвалась: — Эльза. А тебя как зовут?
Анри не отвечал.
— Вот видишь! — воскликнула она. — Он знать меня не желает. Невыносимо!
Она яростно топнула ногой. Я спросил ее:
— Почему он тебе нравится? Он же не очень красив. Толстый. Сноб. Одевается, как подросток. К тому же пьяница.
— Толстый и сноб — согласен, — подал голос Анри. — А насчет пьяницы — это ты загнул… Что же до одежды…
— Лучше всех! — воскликнула Эльза.
— Что в нем хорошего? — спросил я.
— Голос! Лучше не бывает!
Анри закатил глаза к небу. Затем наступила пауза, в продолжение которой Эльза пожирала Анри глазами, оглядывая моего друга с ног до чудесной вьющейся шевелюры. Он прокашлялся в кулак, потом ответил:
— Послушайте, мадемуазель, не знаю, кто вы, откуда, кто были ваши… ваши предки, хотя в чем-то нахожу вас привлекательной, да, привлекательной, это слово подходит как нельзя лучше. И все же мне кажется, что вы немного торопитесь, не так ли…
— Ты такой красивый, — с чувством объявила Эльза.
Он вздохнул:
— Спорить в подобных условиях бессмысленно.
— Но я не хочу спорить! Я хочу любить тебя!
— Она сумасшедшая, — заключил Анри, затем, обернувшись ко мне, спросил: — Я провожу тебя?
Мы вышли из клуба, Эльза за нами. Анри остановился перед белой отцовской машиной и вынул из кармана связку ключей. Я спросил:
— Что ты делаешь?
— Вытаскиваю из кармана ключи.
— Ты умеешь водить?
— Более-менее.
— А права получил?
— Да. Но даже если бы и нет, с моим папашей…
Он сел в машину, открыл дверцу с другой стороны.
За моей спиной послышался шепот Эльзы:
— Эрик, прошу тебя. Пожалуйста…
Сев, я открыл заднюю дверцу, и Эльза забралась в машину. Анри бросил на нее в зеркальце скорее удивленный, чем холодный, взгляд и включил зажигание.
В дороге все молчали. Когда за рулем начинающий, лучше молчать.
Дневник Одиль
Вилле-сюр-Мер, 4 августа.
1 час ночи
В основе той муки, которая сейчас, когда погашены все огни, отдается во мне бесконечной болью, — вчерашняя встреча на пляже в четверть пятого. Когда мы с Паулой уселись под ее красным зонтом, она сказала:
— Сейчас я расскажу вам одну историю.
Я поинтересовалась, правдивая ли это история, и она серьезно ответила «да». Тогда я оставила шутливый тон. Паула предложила мне сигарету, и, когда все приготовления — сигарета, зажигалка, первая затяжка — закончились, я ожидала услышать традиционное «жили-были», которым начинаются все истории, даже правдивые. Вместо этого Паула задала мне странный вопрос. Спросила, что я думаю об Эрике Короне. Я ответила, что слишком мало знаю его, чтобы думать о нем.
— Ну хорошо, а какое впечатление он на вас производит?
— Не очень благоприятное.
— А точнее?
Уточнять я не стала.
— Он, конечно, не простит мне, — продолжала Паула, — что я вот так вмешиваюсь в его дела. Он этого не выносит.
— Вы из числа его друзей?
— Я друг его родителей, но речь не об этом. Предположим, что мы с ним достаточно близкие люди и это позволяет мне вмешиваться не в свое дело. — Помолчав, она продолжала: — И все же я рискую. Видите ли, Эрик из тех, кто не осмеливается позвать на помощь, когда тонет, потому что боится, не выглядит ли это так, словно он просит кого-либо о чем-нибудь.
Тут я подумала: я не я, если это сказано не ради красного словца. Чтобы показать, что я вся внимание и что такой отзыв об Эрике удивляет и интригует меня, я спросила:
— Он что, тонет?
— Да. И хотя я мало вас знаю, чувствую, что вы можете помочь ему удержаться на плаву.
— Ну уж! Знаете, он совершенно не замечает меня. Если он кого-то и выбрал для тех целей, о которых вы говорите, так это скорее моя сестра.
— Нет. Сестра ваша тут совершенно ни при чем.
— Откуда вы знаете?
Она небрежно махнула рукой.
— Неважно. Важны вы. И Эрик. Он очень несчастен. Даже выразить невозможно, до какой степени.
— По нему этого не скажешь.
Она втянула носом воздух и слегка улыбнулась. Затем потушила сигарету о песок, набрала песку в руку и стала потихоньку ссыпать его, подставив под струю другую руку ладонью вниз.
— К счастью, по нему этого не скажешь. В противном случае, уверяю вас, он не выглядел бы так.
— В чем причина его несчастья?
Прикрыв глаза, так что под глазами образовалась тень от ее длинных ресниц, она проговорила ровным голосом:
— Эрик видел страдания и смерть четырнадцатилетней девочки, своей сестры, которую никто не мог спасти. Он любил ее, как никто другой, а ведь нет ничего более страшного, чем выносить страдания любимого существа, непорочного и беззащитного. В смерть эту невозможно поверить, такое ощущение, что ты стал героем романа ужасов и на твою беду тебе нельзя ни проскочить страшные страницы, ни закрыть книгу. Это случилось, и от этого никуда не деться. Есть от чего сойти с ума кому угодно, но Эрик не кто угодно, это-то его и спасло. Скажем так: