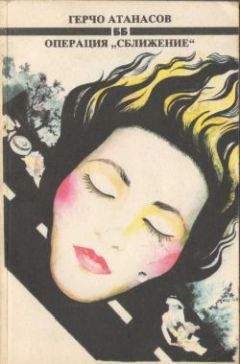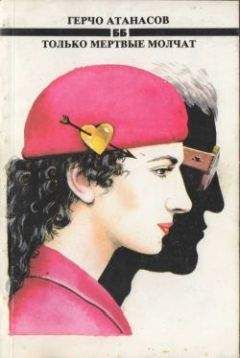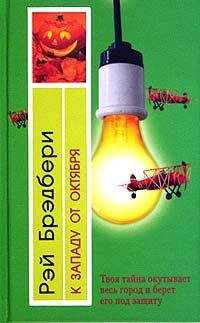настолько же, насколько возмущали явные несуразности, на которых настаивал Чочев. «Тео, — сказал он ему как-то в поздний час, — в науке, как в любви: не знаешь, откуда явится и куда тебя поведет вдохновение, когда оно тебя осенит и когда улетучится яко дым… Ты только посмотри, что другие делают по всему свету! И ведь все гипотезы, милый мой, все начинается с гипотезы: я предполагаю, ибо это абсурдно! А там, глядишь, и вышло нечто вполне логичное. Так что попробуй высвободить душу из тисков, а ум сам выйдет на волю!».
Теодор не был на это способен. Сторонник порядка, логики и последовательности, он шел сначала от «а» к «6», затем от «б» к «в» итак далее, никогда не меняя их местами, потому что не находил в этом смысла: он был глубоко убежден, что все в природе, а следовательно, и в жизни, подчиняется строгому порядку, идет своим определенным ходом, каким бы сложным ни было взаимодействие отдельных частей. В этом он видел самую суть Натуры, ее глубоко закодированную функцию. Потому что, рассуждал он, в природе нет ничего случайного, в ней все испробовано, проверено и взаимно уравновешено на протяжении миллионов лет, и все во имя одной цели — функции. Куда ни посмотри — везде природа работает, трудится, в ней что-то совершается для подготовки следующего этапа, потом еще одного и так далее, — и это не просто движение, а отдельное звено общего, вызывающее или облегчающее некий процесс, некую функцию, без чего общее теряет смысл. В природе царит логика, заключал он. Иначе она не могла бы существовать ни в этом, ни в каком-либо другом виде и формах, она бы попросту распалась, свелась бы к непонятному и ненужному протовеществу, существование которого невозможно. Вся суть — в функции, подытоживал он. Иначе не было бы разнообразия устойчивости, наследственности, движения. Функция — это сама жизнь, и в этом смысле жизнь — это функция.
Чочева эти вопросы не занимали вовсе. Если бы в молодости ему сказали, что он когда-нибудь займется наукой, он только бы посмеялся. Что у него было за спиной? Богатый житейский и скромный профессиональный опыт. Первый ему подсказывал, что пост его — дом на юру, открытый всем ветрам, и первая же буря в научных кругах может его снести; второй же говорил, что сейчас самое время утвердиться в науке: докторская, курс лекций студентам-заочникам (для очников нет времени) — и профессура в кармане. А если найти подходящего коренного для упряжки, можно и в лауреаты выскочить. И тогда ему сам черт не брат! Доктор наук и профессор — вот твоя стратегическая задача, мой милый.
Что этому мог противопоставить Теодор? Ничего. Он мог лишь разумно приспособиться. Поражение с докторской диссертацией — это он хорошо зарубил себе на носу — лишний раз показывало, что Чочев не только силен, но и ловок, с ним шутки плохи.
Домой Теодор возвращался все позже, посеревший лицом, молчаливый. Его уже ничто не радовало, он все реже включал стереосистему, которой втайне гордился — душа его съежилась, онемела в тех своих уголках, которыми воспринимала музыку. Я должен привыкнуть, привыкнуть, внушал он себе.
Милка была иного мнения. Как всякая нормальная женщина, перешагнувшая за сорок, она давно перестала удивляться жизни, а человеку и подавно. Она знала десятки запутанных историй — любовных, служебных, семейных, соседских, с малых лет не сомневалась в главенствующей роли эгоизма и корысти, за которыми прячется и точит зубы личный интерес. Более того, она умом и сердцем верила, что это главная сила, не видела других, более глубоких первооснов человеческих поступков. Что касается ее самой, то и здесь все было предельно ясно: потолок достигнут, любовь улетела, амбиции и стремления прополоты и распределены по грядкам: Елица и Теодор. «Отец и дочь, а как не похожи они друг на друга, — частенько думала она. — У Теодора все ушло в ум, у Елицы — в характер. Теодор как будто мужчина, а сколько в нем мягкого, женственного. Елица, казалось бы, женщина, а смотрит на жизнь решительно, по-мужски, всегда готова дать отпор. При ее коварной болезни…».
Больше всего мучила Милку тайная причина охлаждения между отцом и дочерью. Этот елицын дневник, эти строки о братоотступничестве Теодора, при виде которых он упал в обморок, упорное молчание Елицы, ее скитания допоздна неизвестно где, замкнутость, неразбериха в университете и наконец, ее бегство к Няголу — все это звенья одной цепи, к которой ее не допускают. Она, мать, не могла с этим смириться и чуяла, что произошло нечто из ряда вон выходящее.
Однажды Теодор вернулся заполночь. Сквозь сон Милка услыхала, как щелкнул замок входной двери, проснулась и стала слушать, как раздевается Теодор: снял туфли, потом пиджак, вот застучали шлепанцы — сначала отчетливо, по мраморной плитке прихожей, потом глухо, по ковровой дорожке. Внезапно шаги смолкли совсем. Милка напрягла слух: что он там делает, неужто ходит в одних носках, зачем?
В квартире стояла тишина. Милка встала, прислушалась и вышла в коридор. Теодора там не оказалось. Она заглянула в кабинет, в кухню, приоткрыла дверь в комнату Елицы — нет. Ей стало страшно, мысль о том, что в квартиру забрался вор, окатила ее холодной волной, сковала, в горле пересохло, из него вырвался слабый, хриплый звук.
Теодор вздрогнул. Измученный, погруженный в свои мысли, он стоял, бессильно прислонившись спи — ной к вешалке. В отраженном свете он заметил в коридоре у стены неподвижную, съежившуюся будто от холода, Милку. Он отвел ее в гостиную, закутал. Милка молчала, ее бил озноб. Теодор засуетился, стал успокаивать ее, говорил ласковые, давно забытые слова, растирал ей ладони, но Милка продолжала дрожать.
Ничего не понимая, Теодор спрашивал одно и то же — что с тобой, что случилось, но Милка все сильнее содрогалась в немых конвульсиях, из ее груди вырвался стон, хриплый, сильный и отчаянный. Он никогда не видел ее такой и испугался. «Елица!» — сверкнуло в мозгу страшное предположение, бросив жену, он заметался по пустой квартире, сжимая руками виски, ударяясь о стены и мебель. С Елицей случилось непоправимое, ее не смогли привести в чувство, она задохнулась, задохнулась… «А-а-ах!» — крикнул он и рухнул на колени, потом на локти, ударился лбом о пол, темную гостиную полоснуло лучом света, и Теодор затих…
Через полчаса оба сидели в кухне, странно спокойные, безмолвные. Первой пришла в себя Милка, она бросилась к мужу, стала приводить его в чувство, осыпая вопросами и ласковыми словами, которых он не