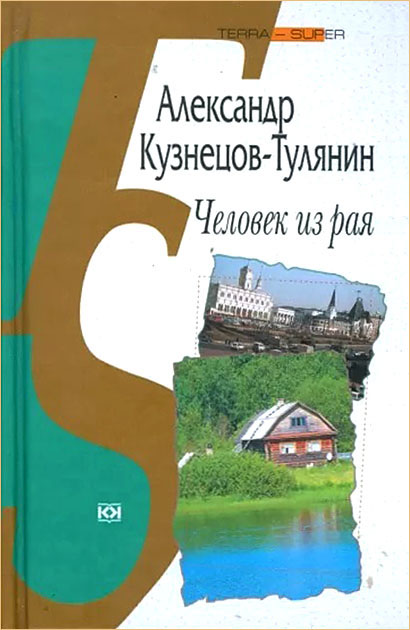— так вообще чуть не через день приходила, и почти всегда без отца. Но и мать была как-то деловита — она и в детстве не очень баловала его лаской, а теперь и вовсе здоровый мужик в бинтах и гипсе, растянувшийся на кровати, в ее воображении мало ассоциировался с ее маленьким сыночком. Придет, скормит ему половину домашней котлеты — больше в него не лезло, посидит, поговорит о чем ни попадя и наконец уйдет. Один раз приходила наведалась двоюродная сестра, еще появлялась делегация из газеты Сыроежкиной — трое доброхотов. Тумбочка была завалена фруктами и соками. Дважды приходил следователь, вытягивал жилы, ел предложенные конфеты… Но все эти явления, даже матери и отца, были сдвинуты в сумеречную область трудной обязательности, а то были и вовсе неприятны, так что Сошников все время ждал вечера, когда после работы к нему «забежит» Ирина. Она теперь словно заменила отца и мать — не этих, состарившихся, а тех, какими они были в его детстве, когда он болел. В детстве отит ли простреливал ему уши, или он грипповал, так что его кружило в водоворотах жара и холода и одиночество бреда обрушивалось на него… Как вдруг из этого ужаса его вытаскивали отцовские руки и носили, качали, прижимали к себе: «Ну-ну, Игоречек, все пройдет…» А рядом мать — испуганная, слезливая, колдовавшая с пахучими пузырьками и ватой. И они вдвоем обволакивали его всю ночь. А теперь их прежние образы размывало водой и вместо них проступало лицо Ирины, ревностное, обладающее абсолютной монополией на нежность и заботу. Мокрой ваткой смачивала ему полосочку лба между бровями и повязкой, виски и щеки и близко шептала: «Ну-ну, Игоречек, все пройдет…»
Он угадывал, что для нее самой эти минуты превратились в необходимость — ей нужно было почувствовать его и только потом успокоиться или обеспокоиться, и начать раскручивать соответствующий его состоянию круг забот: от кормления с ложечки до манипуляций с катетером или судном. Вечером она могла стричь ему залезавшие в рот усы, осторожно, в усердии собирая в дудочку свои пухлые губки, сдувая с его лица отстриженные волоски. Или мыла: приносила из душевой тазик с теплой водой, смачивала полотенце, отжимала и протирала его тело — там, где не было гипса и повязок. Осторожно поворачивала его, перекладывала руку в гипсе, так чтобы можно было протереть в подмышке, и машинально собой закрывала его, голого, от соседей, которым и дела не было до них. Она была преисполнена материнской магией, вдруг с такой силой проснувшейся в ней к покалеченному мужу. Она только что не вылизывала его, как кошка может вылизывать котенка. Такое мытье влажным полотенцем и было похоже на вылизывание. И тогда он понимал, что жизнь сместилась на совсем иную ступень: он, разбитый, низвергнутый в детскую беспомощность тридцатипятилетний мужчина вновь ощущал себя обвитым любовью ребенком.
* * *
Его выписали с перспективами вовсе не радужными. И он сам понимал, что заново научиться осознавать себя в разбитом теле крайне тяжелый труд. Все, что составляло когда-то его цельность, окончательно распалось, он почти физически ощущал этот распад: вот ты со своей клубящейся болью в плохо срастающихся костях, со страхом, головокружением, тошнотой, ни на минуту не затихающими ни в каком положении — ни на спине, ни на боку, ни сидя, ни с задранными на стену ногами. А где-то в стороне твои руки — левая, изнывающая, с еле работающими кончиками пальцев; правая, целая, но бессильная, еле поднимающая стакан с водой. И где-то еще ноги — отекшие и занемевшие из-за плохо работавших почек. Сердце, бьющееся в некой стиснутой земляной щели. И несмолкающий гул-звон по всему телу. Такая беспомощность обескураживала.
Ирина поселила его на диване в большой комнате, напротив телевизора и поближе к туалету. День его начинался с того, что он долго лежал, приноравливаясь к пробуждению, угадывая гуляющие по телу боли. И наконец осторожно садился, опускал на пол ноги и сидел некоторое время, глядя на свои сизые отекшие ступни. Жар и холод пульсировали в нем, тошнило, комната кружила перед глазами. Но вот он поднимался, стоял некоторое время, пытаясь угадать, доведут ли его до туалета трясущиеся ноги, и, не имея сил надвинуть шлепанцы, держась за стену здоровой рукой, медленно начинал перемещаться. Но бывало, не справлялся с задачей, останавливался, поворачивал назад к кровати и, трясясь, почти плача, с ужасом чувствовал, как течет по ноге. Однажды на виду у сына, который опрометью кинулся в комнату к деду (матери в этот час не было), и Сошников слышал оттуда заполошный шепот: «Дедушка, папа кровью описался…»
В течение этого месяца Ирина еще таскала его по «специалистам». Вызывала такси, одевала его и, обхватив за пояс, выводила на улицу, везла в диагностический центр, в областную больницу, даже к каким-то надомным практикам и наконец к старухе.
Все было тщетно. Сошников таял изо дня в день. Его ставили на весы. При росте сто семьдесят семь он весил пятьдесят семь. Две недели спустя — пятьдесят четыре. В конце месяца пятьдесят два. Он почти перестал есть. Порой только внешний вид еды вызывал приступ тошноты.
Каждый «специалист» был горазд на собственные диагнозы. В больничном томе Сошникова появлялись пугающие записи, в которых он ничего не смыслил, но от произнесения которых ему хотелось сразу умереть — посттравматический невроз и анорексия, почечная недостаточность, вегетососудистая дистония, пароксизмальная тахикардия… Диагнозы нужно было заедать огромным количеством лекарств: пригоршни несусветно дорогих пилюль и какие-то вонючие настойки. Но от лекарств тошнило еще сильнее. И зачем он все это ел — он вовсе не знал, он оплачиваемую последними Ириниными копейками медицинскую бухгалтерию вообще плохо понимал, он только чувствовал, что запаса жизни внутри него остается все меньше.
На какой-то ноте самопоедания и любопытства под спудом страдания он ухитрялся наблюдать за деформациями своей души, как она перетекла сначала от надежды к раздражению, а потом скользнула от раздражения к равнодушию. Он приходил к выводу, что человек, ступивший одной ногой в ледяное болото небытия, вообще видит все иначе. Но видит ли он то бытие, которое существует в действительности? Или действительность начинает подстраиваться под его видение? Вот что его стало волновать в эти дни. А видит он порой такое, что смертному лучше вовсе не видеть и не знать. Громоздкое мироустройство преображается, текучие болезненные образы плывут мимо опустошенного взора в своем наиболее жутком воплощении: простой дверной проем вдруг начинает дышать в лицо сырым склепом, небо в окне фосфоресцирует смертно. И