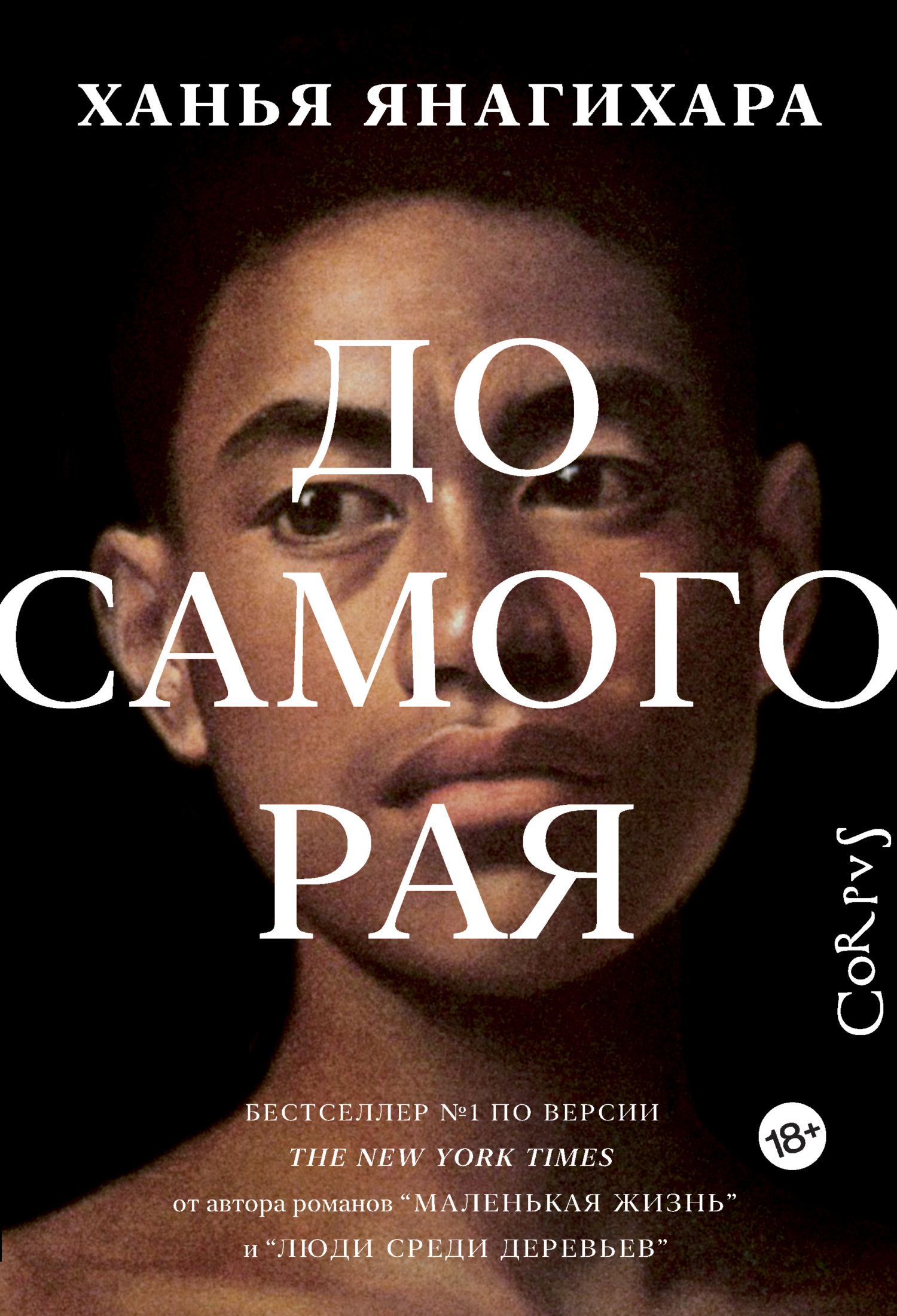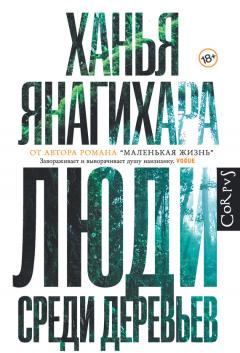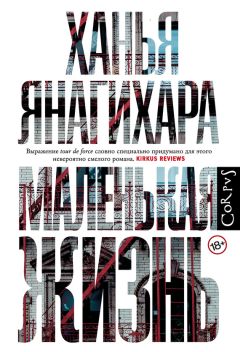хорошо, Чарли. Все хорошо. – Он обнимал меня и укачивал, и в конце концов я затихла. – Я отключил камеры и микрофоны, и у нас есть время до 13:30, прежде чем вернутся Мухи. Ты видела, что произошло сегодня, – продолжил он, и я кивнула. – Инфекция уже распространилась по всей Четвертой префектуре и скоро придет сюда. Чем серьезнее все станет, тем труднее нам будет выбраться. Поэтому день отъезда переносится на второе октября. Через день после этого правительство сделает официальное заявление, и в тот же вечер начнется тестирование и эвакуация в центры перемещения. Еще через день введут комендантский час. Мы, конечно, затянули до последнего, но надо было очень много всего согласовывать заново, и лучше не получалось. Ты понимаешь, Чарли? Ты должна быть готова второго октября.
– Но это уже в субботу! – сказала я.
– Да – прости меня за это, – сказал он. – Я неправильно все рассчитал – мне сказали, что правительство сделает заявление не раньше двадцатого октября. Но я ошибся. – Он вздохнул. – Чарли, ты поговорила с мужем?
Когда я ничего не ответила, он развернул меня за плечи к себе лицом.
– Послушай меня, Чарли, – сказал он сурово. – Ты должна с ним поговорить. Сегодня вечером. В противном случае я делаю вывод, что ты едешь без него.
– Я не могу уехать без него, – сказала я и снова заплакала. – И не поеду.
– Тогда ты должна с ним поговорить, – сказал Дэвид и посмотрел на часы. – Нам пора уходить. Ты идешь первой.
– А ты? – спросила я.
– Обо мне не беспокойся, – сказал он.
– Как ты сюда попал? – спросила я.
– Чарли, – сказал он с нетерпением, – я все расскажу позже. А теперь иди. И поговори с мужем. Обещай мне.
– Обещаю, – сказала я.
Но я так и не поговорила. На следующий день меня ждала еще одна записка: “Ну что?” Но я скомкала ее и сожгла на бунзеновской горелке.
Это было во вторник. В среду я тоже ничего ему не сказала. Потом наступил четверг, свободный вечер моего мужа. До отъезда оставалось три дня.
Тем вечером муж не вернулся домой.
Вообще-то если бы меня спросили, я не смогла бы ответить, почему решила довериться Дэвиду. Правда в том, что на самом деле я не доверяла ему – или, по крайней мере, доверяла не до конца. Этот Дэвид отличался от того, которого я знала раньше: он был более серьезным, не таким непредсказуемым, и в нем было что-то пугающее. Но и в том, другом Дэвиде тоже было что-то пугающее – такой он был безрассудный, такой необычный. В некотором смысле мне было легче принять этого нового Дэвида, хоть я и чувствовала, что с каждым днем знаю о нем все меньше. Иногда я сжимала в руках дедушкино кольцо, думала обо всем, что Дэвид знал обо мне, и говорила себе, что Дэвиду можно верить, что он защитит меня, что его послал человек, которому доверял дедушка. Но бывали дни, когда я с фонариком рассматривала кольцо под одеялом, пока муж спал, и гадала, действительно ли оно дедушкино. Разве его кольцо не было больше размером? Разве на золоте была такая вмятина справа? Подлинное оно или все-таки копия? Вдруг дедушка вовсе не отправлял его этому своему другу? Вдруг кольцо у него украли? Но потом я приходила к выводу, что если это обман, то он того не стоит – я не стою того, чтобы меня похищали. За меня не заплатят выкупа, никто не будет по мне скучать. Дэвиду незачем увозить меня.
Но в то же время спасать меня ему тоже незачем. Если я не стою того, чтобы меня похитили, то и спасать меня не стоит.
Так что я не могу сказать, почему я решилась ехать и действительно ли я на это решилась. Все казалось слишком далеким, слишком неправдоподобным, придуманным. Я знала только, что поеду куда-то, где будет лучше, и что дедушка хотел бы, чтобы я туда поехала. Но я ничего не знала о Новой Британии, кроме того, что есть такая страна, что когда-то там была королева, а потом король, что там тоже говорят по-английски и что правительство разорвало с ними отношения еще в конце 70-х. Наверное, это чем-то напоминало игрувроде тех, в которые мы играли с дедушкой, изображая, что ведем разговор, – получалось, что это тоже воображаемый разговор и мой отъезд воображаемый. Во время нашей последней встречи с Дэвидом я снова начала возражать ему: я сказала, что не хочу оставлять накопленные чеки дома, потому что они могут понадобиться мне позже, когда я вернусь, но Дэвид прервал меня.
– Чарли, ты никогда не вернешься, – сказал он. – Ты уедешь отсюда навсегда. Ты меня понимаешь?
– А если я захочу? – спросила я.
– Я сомневаюсь, – медленно сказал он. – Но ты в любом случае не сможешь. Если ты попытаешься, тебя схватят и убьют на Церемонии, Чарли.
Я ответила, что понимаю, и действительно так думала – но может быть, на самом деле я не понимала. В одну из суббот я спросила Дэвида, что будет с мизинчиками, и он сказал, что я не должна думать о мизинчиках и что с ними все будет в порядке – о них позаботится другой лаборант. И я расстроилась: иногда мне нравилось воображать, что только я умею работать с мизинчиками, хоть я и знала, что это не так. Мне нравилось воображать, что я подготавливаю их лучше всех, тщательнее всех, аккуратнее всех, что со мной никто не сравнится. “Это правда, Чарли, это правда”, – сказал Дэвид, и через некоторое время я успокоилась.
В четверг, ожидая возвращения мужа, я опять думала о мизинчиках. Они были очень важной частью моей жизни, и я решила, что завтра – это, как напомнил мне Дэвид, будет мой самый последний день в Университете Рокфеллера – украду с работы чашку Петри с несколькими экземплярами. Всего одну чашку, всего несколько мизинчиков в совсем небольшом количестве физраствора. Дэвид сказал, что я должна взять с собой только то, что имеет значение лично для меня, а мизинчики имели для меня значение.
В сумке у меня было много места. Я положила туда только половину золотых монет, которые мы хранили под моей кроватью, четыре смены нижнего белья, дедушкино кольцо и три его фотографии. Дэвид велел не брать с собой ни одежду, ни еду, ни даже воду – все это мне дадут. Когда я собирала вещи,