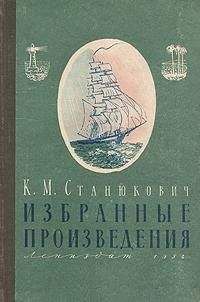После обеда, когда подвахтенные отдыхали, Куцый неизменно ложился у ног Кочнева, пожилого и угрюмого бакового матроса, горького пьяницы, к которому питал необыкновенно нежные чувства и выказывал трогательную преданность. Он глядел матросу, что называется, в глаза и всегда почти вертелся около него, видимо, несказанно довольный, когда Кочнев погладит его. Во время ночных вахт Куцый обязательно бывал при Кочневе и, когда тот сидел на носу, на часах, обязанный смотреть вперед, Куцый нередко исполнял вместо своего приятеля обязанности часового. Он добросовестно мок под дождем, продуваемый насквозь свежим ветром и, насторожив изгрызенные уши, зорко всматривался вперед, в темноту ночи, предоставляя матросу, закутанному в дождевик и согретому шерстью собаки, слегка вздремнуть, поклевывая носом. Завидев огонь встречного судна или внезапно выросший силуэт «купца», не носящего по беспечности огней, Куцый громко лаял и будил задремавшего часового. На берег Куцый всегда съезжал с Кочневым, шел с ним до ближайшего кабака и, отлучившись на часок, чтобы взглянуть на береговых собак, возвращался, иногда изгрызенный, к своему другу и уже не выпускал его из глаз. Он внимательно и с видимым сочувствием слушал пьяные монологи матроса, подавал реплики виляньем обрубка или ласковым визгом, если пьяный Кочнев вел с ним беседу на какие-нибудь, должно быть, невеселые темы, и сторожил матроса, когда тот валялся на улице в бесчувственном состоянии, пока не подходили товарищи и не подбирали его. Одним словом, Куцый выказывал истинно собачью привязанность к тому человеку, который доставил ему, гонимому бродяге, каждое утро рисковавшему попасть на аркан фурманщика, спокойный приют на корвете и сытую, приятную жизнь среди добрых людей, выразивших бродяге с первого же дня его появления на корвете самое милое и любезное внимание, которого он уже давно не видал.
В свою очередь, и угрюмый, малообщительный матрос был сильно привязан к своему найденышу, показавшему такие блистательные способности, не говоря уже о прекрасных нравственных качествах, и, кажется, только с ним одним и вел под пьяную руку длинные интимные беседы. Он рассказывал Куцему о том, как он неправильно, из-за одного «подлого человека», был сдан в матросы, и о своей жене, которая живет вроде быдто «форменной барыни», и о дочери, которая знать его не хочет… И Куцый, казалось, понимал, что этот угрюмый матрос, пивший джин стаканчик за стаканчиком в каком-нибудь иностранном кабачке, рассказывает невеселые вещи.
Знакомство с Куцым произошло совершенно случайно. Это было в Кронштадте в один ненастный и холодный воскресный день, после обеда, дня за три до отхода «Могучего» в кругосветное плавание. Порядочно «треснувши» и выписывая ногами самые затейливые вензеля, Кочнев возвращался из кабака на корвет, стоявший в военной гавани, как где-то в переулке заметил собаку, угрюмо прижавшуюся к водосточной трубе и вздрагивающую от холода. Жалкий вид этой намокшей, с выдающимися ребрами, видимо, бесприютной собаки и притом самой неказистой наружности, обличавшей бродягу, тронул пьяненького матроса.
— Ты, брат, чей будешь?.. Видно, бездомный пес, а? — проговорил он заплетающимся языком, останавливаясь около собаки.
Собака подозрительно взглянула своими умными глазами на матроса, точно соображая: дать ли ей немедленно тягу или выждать, не уйдет ли этот человек. Но несколько дальнейших слов, произнесенных ласковым тоном, видимо, успокоили ее насчет его недобрых намерений, и она жалобно завыла. Матрос подошел еще ближе и погладил ее; она лизнула ему руку, видимо, тронутая лаской, и завыла еще сильней.
Тогда Кочнев стал шарить у себя в карманах. Этот жест возбудил в собаке жадное внимание.
— Голоден, небось, бедный! — говорил матрос. — А ты потерпи… Вот и нашел, на твое счастье! — прибавил он, вынимая наконец из штанов медную монетку.
Он зашел в мелочную лавочку и через минуту бросил собаке куски черного хлеба и обрезки рубцов, купленных им на свои непропитые еще две копейки.
Собака с алчностью бросилась на пищу, и в несколько секунд сожрала все, и снова вопросительно смотрела на. матроса.
— Ну, валим на конверт… Там тебя накормят до отвалу, коли ты такой голодный… Матросы — добрые ребята… Не бойся! И переночуешь на конверте, а то что за радость мокнуть на дожде… Идем, собака!
Он ласково свистнул. Собака двинулась за ним, и не без некоторого смущения вошла по сходням на корвет, и вслед за матросом очутилась на баке среди толпы людей, испуганная и будто сконфуженная своим непривлекательным видом.
— Бродягу, братцы, нашел! — проговорил Кочнев, указывая на собаку.
Несчастный ее вид возбудил жалость в матросах. Ее стали гладить и повели вниз кормить. Скоро она, наевшись досыта, заснула недалеко от камбуза (кухни) и, не веря своему счастью, часто тревожно просыпалась во сне.
Наутро, разбуженная чисткой верхней палубы, собака испуганно озиралась, но Кочнев значительно успокоил ее, поставив перед ней чашку с жидкой кашицей, которой завтракали матросы.
Спустя несколько времени, когда палуба была вымыта, Кочнев вывел ее наверх на бак и предложил матросам оставить ее на корвете.
— Пущай плавает с нами.
Предложение было принято с полным сочувствием. Обратились к боцману с просьбой испросить разрешение старшего офицера, и, когда разрешение было получено, на баке поднялся вопрос, какую дать этому псу кличку.
Все посматривали на весьма неказистую собаку, которая, в ответ на ласковые взгляды, повиливала обрубком хвоста и благодарно лизала руки матросов, которые гладили ее.
— Окромя как Куцым никак его не назвать! — предложил кто-то.
Кличка понравилась. И с той же минуты Куцый был принят в число экипажа «Могучего».
Первоначальным воспитанием его занялся Кочнев и выказал блестящие педагогические способности. Через неделю уже Куцый понял неприкосновенность сверкавшей белизной палубы и строгость моряков относительно чистоты и сделался исправной собакой. В первую же трепку в Балтийском море он обнаружил и свои морские качества. Его нисколько не укачивало, он ел с таким же аппетитом, как и в тихую погоду, и не выказывал ни малейшего малодушия при виде громадных волн, разбивающихся о бока корвета. Вскоре смышленый и ласковый Куцый сделался общим любимцем и забавлял матросов своими штуками.
И такого-то славного пса грозили выкинуть за борт!
Весть об этом взволновала едва ли не более всех Кочнева, и он решил принять все меры, чтобы этот «долговязый дьявол» не встречал Куцего. И в тот же день, когда Куцый с веселым беззаботным видом выскочил наверх, как только что просвистали к водке, Кочнев отвел его вниз и, указав место в самом темном уголке кубрика, проговорил:
— Сиди, Куцый, здесь смирно, а то беда! Ужо я принесу тебе пообедать!
IV
Прошел месяц.
За это время матросы достаточно присмотрелись к новому старшему офицеру и невзлюбили его. Он, правда, до сих пор никого не наказал линьками, никого не ударил и вообще не обнаруживал жестокости, и тем не менее барона ненавидели за его придирчивость, мелочность, за то, что он приставал, «как смола», «зудил» провинившегося в чем-нибудь матроса без конца и затем наказывал самым чувствительным образом: оставлял виноватого без берега, лишая таким образом матроса единственного удовольствия дальних плаваний. А то ставил на ванты или посылал на «высидку» на нок и — что казалось матросам еще обиднее — оставлял без чарки водки, столь любимой моряками.
Барона ненавидели и боялись и за эти наказания, и за его бессердечный педантизм, не оставлявший без внимания ни малейшего отступления от расписания судовой жизни. Все чувствовали над собой гнет какой-то бездушной, упрямой машины и, главное, понимали, что в душе барон презирает матроса и смотрит на него исключительно как на рабочую силу. Никогда ни доброго слова, ни шутки! Всегда один и тот же ровный и спокойный скрипучий голос, в котором чуткое ухо слышало высокомерно-презрительную нотку. Всегда этот жесткий взгляд голубых бесстрастных глаз!
Не пользовался он и уважением как моряк. На баке, этом матросском клубе, где даются меткие оценки офицерам, находили, что он далеко не орел, каким был Степан Степаныч, а мокрая курица, выказавшая трусость во время шторма, прихватившего корвет по выходе из Сингапура. И дело он, по мнению старых матросов, понимал не до тонкости, хотя и всюду совал свой нос. И «башковатости» в нем было немного, а только одно упрямство. Одним словом, барона терпеть не могли и иначе не звали, как «Чертовой Зудой». Всякий опасался его наставлений, словно чумы.
Вначале барон вздумал было изменить порядки на корвете и вместо прежних недолгих ежедневных учений стал «закатывать» учения часа по три подряд, утомляя матросов и без того утомленных шестичасовыми вахтами на ходу. Но, спасибо капитану, он скоро умерил усердие старшего офицера.