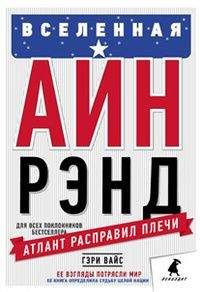Поразительное старание выказывал здоровяк Лейзер-краснодеревщик, ловко нанизывавший на извилины в своей голове, как шашлык на шампур, не только имена кандидатов, но и места их работы. Правда, бывало, могучий Лейзер попадал впросак, допускал досадные промахи и ошибки, за которые мама сурово отчитывала его без оглядки на родство.
- Хаим Перельштейн? - хмурилась она. - Откуда ты его выкопал? Всех, ну всех спрашивала - никто о таком портном в Вильнюсе сроду не слышал. Есть Перельштейн мясник, есть Перельштейн музыкант, есть Перельштейн зубной врач... Но Перельштейна портного нет. И в Каунасе нет... И в Шяуляе...
Или:
- Дамских портных мне не подсовывай. Они разбираются в мужской одежде, как я в сыпном тифе.
Или:
- Гурвиц? Только через мой труп!
- Но он же...
- Что - он же?.. Такая же дворняга, как Хлойне... Завистник. Разве на суде дождешься от завистника доброго слова?
Она отшвыривала фамилии, как сортировщица овощи на оптовой базе: ядреные кочаны - в одну кучу, гнилые - в другую.
Когда я попытался умерить ее пыл - объяснить, что суд сам назначит экспертов и что она зря морочит себе и другим головы, мама застонала, как раненая, и, не поднимая на меня глаз, выпалила:
- Что ты, дурачок, понимаешь? Витаешь в своих стишках, как в облаках, и витай. - И через минуту, смягчившись, высокопарно добавила: - Человека надо спасать. Он этого не выдержит.
Отбор экспертов затянулся. Одни отказывались потому, что не желали ввязываться в драку, портить отношения с ответчиком, другие - потому, что побаивались истца: как-никак полковник. Поди знай, чем он отплатит за правду.
Судебное разбирательство несколько раз откладывалось, и мама уже в душе надеялась, что "процесс века", как его окрестил здоровяк Лейзер, вообще не состоится.
Но еврейские надежды если и сбываются, то, как правило, только через десятки, а порой и сотни лет...
Судейские двух экспертов все же нашли.
- Господи! - воскликнул отец, когда услышал первое имя. - Хлойне! Эта старая гнида, этот твердокаменный большевик, этот добровольный доносчик!
- Я поговорю с ним, - сказала мама, готовясь к рукопашному бою.
- Не смей!
- Я сверну ему голову, если он выступит против тебя! - пригрозила мама, но отец остудил ее пыл, сказав, что, может, это и к лучшему.
- Хлойне, наверно, хочет искупить свою вину.
- Перед тобой?
- Перед Цукерманом, на которого он донес и который недавно, отбухав срок, вернулся из пермского лагеря.
- А тебе-то от этого какой прок? - пытала его своими сомнениями мама. Думаешь, у Хлойне совесть проснулась?
- Поживем - увидим, - уклончиво ответил отец. В душе он даже радовался назначению Хлойне, но привыкнуть к своей радости боялся - привыкнешь, а потом локти от обиды кусай.
Второго эксперта выписали из Паневежиса, из города, где, по слухам, был расквартирован полк Карныгина, в котором тот до отставки служил. Русская фамилия портного - Борисов - отцу ничего не говорила. Из староверов, наверно, решил он, но ошибся. Старовер оказался одесским евреем с большими черными глазами и с огромным носом, похожим на охотничий рог.
В Вильнюс он приехал перед самым открытием суда. Протиснувшись через толпу зевак, заполнивших маленький и душный зал, он пробрался к судейскому столу, что-то протрубил секретарю и, положив на колени пухлый портфель, опустился на первую скамью, отведенную для защитников, экспертов и для тех, кто возбудил тяжбу.
После того, как иск Карныгина был зачитан, судья, торопившийся куда-то с самого начала слушания - то ли в туалет, то ли на заседание бюро райкома, - обратился к "товарищам экспертам" с просьбой огласить свои основные выводы.
Первым на обшарпанную трибуну, пахнувшую плесенью и окурками, поднялся подтянутый, выбритый Хлойне в сером выходном костюме, в начищенных ботинках, которые блестели, как боевая труба.
- Высокий суд! - по старинке начал он и понесся галопом через тома Маркса и Ленина, через решения ...надцатого съезда и последнего пленума ЦК КП Литвы.
- Товарищ Левин, если можно, покороче, - упавшим голосом взмолился судья.
- Можно и покороче, - согласился Хлойне. - Для чего, товарищи, мы с вами, собственно, живем? Для того, товарищи, чтобы все мы жили счастливо. Все, что мы - портные и шахтеры, сталевары и сапожники, нефтяники и ученые все без исключения делаем, мы делаем для всеобщего счастья.
В этом месте судья по-детски застонал.
Хлойне перевел дух, глянул на стонущего председателя и пустился рысью "от Москвы до самых до окраин...".
- Свою лепту в строительство счастливого общества вносит, товарищи, и дружный коллектив швейной мастерской номер шесть на углу Троцкой и бывшей Завальной...
- Покороче, покороче! - бесстыдно умолял судья.
- Не покладая рук, мы трудимся на благо наших замечательных современников. Наш труд удостоился множества почетных грамот и других поощрений и отличий...
- Вегн Шлейме рейд! Вегн Шлейме (О Шлейме говори, о Шлейме!)! выкрикнул кто-то из зала не на государственном языке, а на идише.
- Прошу всех соблюдать тишину! - одернул крикуна судья, ерзая на стуле.
- Что я вам могу, товарищи, сказать о Шлейме Кановиче? Такие портные рождаются... рождаются... - Хлойне на мгновение задумался над тем, какой цифирью выстрелить в судейских, и наконец выпалил: - Один раз за сорок, а может, и за пятьдесят лет. Солдат Шестнадцатой Литовской дивизии, храбро сражавшийся с фашистами, мастер экстра-класса.
- Товарищ Левин! - снова простонал председатель.
- Сокращаюсь, сокращаюсь, - поклонился судейскому столу и креслу Хлойне. - Свидетельством его мастерства может служить и костюм товарища Карныгина. Какая работа! Просто залюбуешься. Она так и просится на выставку... В Москву... В Париж!.. Но в нашем деле, товарищи, главное - не одежда, а человек. - Старый подпольщик отвесил, как солистка хора имени Пятницкого, низкий поклон и в сторону полковника. - Однако, если многоуважаемый истец, товарищ Карныгин, хочет, чтобы в шагу было не двадцать четыре сантиметра, как у студента первого курса, а двадцать шесть, как у выпускника академии Генерального штаба, почему бы не пойти ему навстречу? Желания трудящихся... наших защитников-офицеров, всех советских людей закон для портного...
- Вы кончили, товарищ Левин? - спросил судья и, не дожидаясь ответа, что-то себе пометил в блокноте, достал платок и предупредительно-громко высморкался.
- Да.
- Спасибо. Слово товарищу Борисову.
Выступление второго эксперта отличалось завидной краткостью и решительностью.
- Меня учил шить один грек на Пересыпи по имени Одиссей... Аркаша, говорил он, тыкать иголкой в сукно можно научить любого, а шить так, чтобы тебя вспоминали не только живые, но и мертвые, могут только отдельные особы. Пусть мне простит предыдущий оратор, но его вряд ли вспомнят... И меня не вспомнят... А того, кого вы сегодня судите, пожалуй, не забудут... что бы о своем костюме ни говорил товарищ полковник... Дай Бог, чтобы когда-нибудь и меня судили за такую работу.
Борисов взял портфель и неторопливо спустился с трибуны.
В зале тишина уплотнилась настолько, что казалась стеклянной.
Отец тяжело дышал. Он сидел, опустив голову, и смотрел себе под ноги, как будто вот-вот провалится.
Судья и его помощники удалились на совещание, и вскоре секретарь зачитал постановление:
"Удовлетворить... Вернуть на переделку..."
Мама нетерпеливо, два часа подряд ходила взад-вперед вдоль серого двух-этажного здания суда. Там, где улица Домашявичяус утыкалась в "министерство госужаса", она делала короткую остановку, против своей воли бросала взгляд на неприступные, зарешеченные подвалы, съеживалась и быстро возвращалась обратно.
Когда отец вышел, она не бросилась его расспрашивать - по его лицу все поняла.
- Но почему?.. Почему ты проиграл?.. Хлойне предал?
Он мотнул головой.
- Тот... Из Паневежиса?
- Нет.
- Так почему же?
- Если бы ты, Хена, видела, в каких брюках был судья...
Он взял ее, как в молодости, под руку, она прижалась к нему, и под шум теплого летнего дождика, как под звуки свадебной флейты, они зашагали домой.
Так кончился первый и последний суд в земной жизни моего отца - Шлейме Кановича.
Последний перед тем, как предстать перед Страшным судом, где каждый ответчик и где Истец - не армейский полковник, а Судия - никуда не торопится.
Кремлевская обновка
Никогда еще комментаторский голос Нисона Кравчука, часовых дел мастера и добровольного осведомителя отца, не звенел так торжественно и строго, как в тот день, когда Горбачев объявил на всю страну о выборах народных депутатов СССР. Казалось, не было в жизни Нисона ни ссылки, ни каторжной работы в лесхозе в захолустном Канске.
- Начинается, Шлейме, новая эра, - волнуясь, выдыхал он в трубку, смакуя каждое слово и подробно излагая содержание откликов всех радиоголосов, вещавших из-за границы по-русски, на перемены в Кремле. Перестройка! Горбачев берет быка за рога.