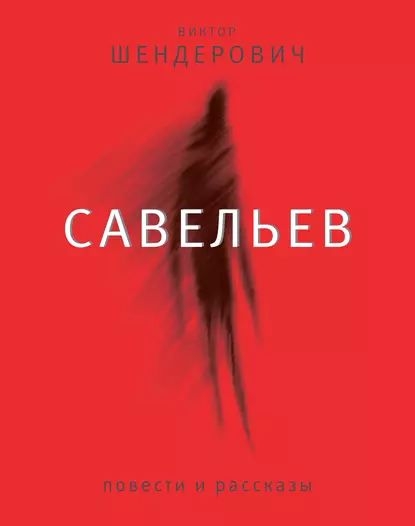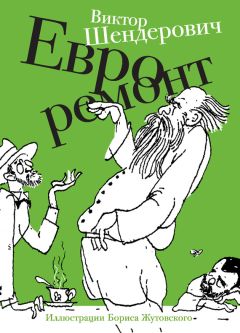Савельева. А его не любил никто.
Гость Нетании крепко выпил на ночь глядя, надеясь на забытье, но вместо забытья дружной семейкой, взявшись за руки, пришли жажда, тошнота и головная боль, и теперь ему было очень плохо.
— Кому было бы лучше? — громко спросил темноту Савельев. — Если бы я стал калекой… Кому?
Никто не ответил ему. И тогда он сделал заявление для прессы. Он сказал:
— Я никому ничего не должен!
В балконную дверь продолжали ломиться.
— О! — кривляясь, крикнул Савельев. — Совесть! Наша со-овесть!
И снова услышал: это сказал Ляшин.
Зацепившись за имя, мозг хохочущим калибаном разом выволок из чулана все гнилье: все неотвеченные звонки, всех дружбанов, холуев, девок, кураторов…
Савельев тяжело встал и пошел к холодильнику. Вода была только газированная, с отрыжкой, — именно этого и не хватало Савельеву для окончательной ненависти к миру! Живот скрутило; жить не хотелось совсем. Надо было как-то договориться с собой, но для начала — с организмом. В аптечке нашлись волшебные американские таблетки для возвращения к жизни, и через час Савельев уже мог думать.
Итак, вот он (доброй ночи всем). Сидит за каким-то хером в Израиловке, на толчке, посреди шторма, раскачивающего пальмы, за дребезжащей балконной дверью, в гостиничном номере, оплаченном подругой юности. Или — вдовой?
Чьей вдовой, позвольте спросить?
Он попытался вспомнить здешнее имя покойного — костлявый говорил… еще такое глупое имя… — и не смог. Какая разница! Эти наклейки можно менять, как на чемодане.
Нет. Месяц назад в Нетании умер он сам: Лелик Савельев, мальчик из Воронежа, московский студент, юный гений с пшеничной челкой, поступивший со своей жизнью так страшно и прекрасно в ту проклятую зимнюю ночь.
А его серый двойник, приросший тогда к клеенчатому полу московского пансионата, — лицом в дверь, сгорбленной спиной к миру, — сидел теперь враскоряку на толчке посреди Нетании и думал, как ему жить дальше при таком раскладе.
Сходить с утречка на могилу к себе самому? Ага, скажите еще: покончить с собой на этих еврейских камнях! (Убейте беллетриста, который выдумал это.)
Нет, нет. По-другому. Но как?
Молча дожить свою жизнь, вот как.
Но — какую именно?
Измученный Cавельев заснул перед рассветом. И там, во сне, кто-то простил его с легким, вполне выполнимым условием, но условия прощения исчезли при первых звуках отвратительного жужжания…
Савельев повернул голову: жужжал айфон, поставленный на вибрацию; жужжал и ползал по прикроватной тумбочке. Было светло, и уже давно.
Пошли к черту, сказал Савельев всем, кто жил в этом айфоне. И остался лежать, глядя в залитый внезапным солнцем потолок. Он попытался вспомнить слова, услышанные во сне, восстановить условия перемирия… И хотя у него не получилось, — главным все-таки было то, что это возможно, возможно!
Савельев дал себе время проснуться, не растеряв спасительного света в душе; спустился на завтрак, любуясь контролируемым парением стеклянного лифта. Старик в окне, в доме напротив, плавно взлетел навстречу…
Савельев выпил кофе на террасе и вышел наружу. Наполнил легкие приятным ветром, глубоко вдохнул, выдохнул. И тремя касаниями вызвал из записной книжки номер Тани Мельцер.
Человек с исковерканным лицом смотрел на Савельева. Взаимное изучение длилось уже минуту.
Таня сидела рядом, глядя на того из них, который был жив.
— Это — три года назад, — сказала она наконец про фотографию.
Московский гость кивнул. Он был растерян и тих.
За полчаса до этого Савельев коротко позвонил в ее дверь. Таня сама позвала его приехать. Душевные силы разом оставили ее: она поняла, что больше не в силах подойти к отелю. И вот этот человек сидел у нее за столом.
— Расскажи еще, — тихо попросил он.
Память Савельева услужливо вычистила все, что было связано с той январской ночью: он не помнил ни ее звонка потом, ни даже встречи накануне. И она рассказывала ему — про бесконечные электрички, про вызубренную дорогу в больницу, про врачей и сестричек, про нескончаемый холодный февраль, в котором пришлось бросить работу и вытягивать, вытягивать, вытягивать его из бездны…
Местоимения выдавали Таню, блуждая между «он» и «ты», но «ты» было все ближе. Спасенный ею, ставший совсем родным, давший ей сына и не переставший быть ее ребенком, исполосованный аллергией, несчастный, любимый, похороненный полтора месяца назад, — Там Мельцер растворялся в прошлом.
А вернулся оттуда — Олег Савельев, постаревший любимый юноша со смертной тоской в глазах, и ее сердце отзывалось привычным сладким обмороком на взгляд этих глаз.
Располневший, потерявший дорогу, измотанный дрянной суетой, — это все равно был он, ее мальчик-счастье. Пришедший в раскаянии по запасным путям судьбы…
И Таня замолчала, примагниченная их общей печалью, этим покорным молчанием, этой виной и готовностью вернуться в их бездонный сюжет… И Савельев поймал эту секунду и бережно донес ее до поцелуя.
Он был удивлен и счастлив тем, как просто даруется прощение. Ничего не надо было делать, оказывается, только благодарить и