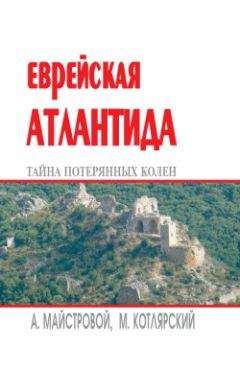отбрасывает мрачный свет на наши отношения, давая понять, что даже самые радужные надежды – это обман, дамоклов меч проклятия висит над ними.
В той же повести «Арфа и тень» читаю: «Подымается занавес над развязкой. Час правды – он и час расплаты. Я скажу лишь, что обо мне может быть начертано на мраморе. Из губ моих исходит голос другого, что так часто жил во мне. Он знает, что сказать…
„Да сжалится надо мною небо, и да плачет обо мне земля…“»
Как точно сказано: «Час правды – он и час расплаты». Или как сказал великий остроумец Станислав Ежи Лец: «Я знаю, откуда взялась легенда о богатстве евреев – ведь они платят за все».
Я должен за все заплатить, в том числе и за мои отношения с Таней, за мое чувство к ней, горячее, как расплавленное лето, и за ее чувство ко мне, и за то, что нам обоим было так хорошо…
* * *
Войдя в огромный зал, который подсвечивался пульсирующими строками информационных табло, Ян вспомнил знаменитое стихотворение Андрея Вознесенского о ночном нью-йоркском аэропорте:
Автопортрет мой, реторта неона, апостол
небесных ворот —
аэропорт!
А потом они перешли в другой зал аэропорта Бен-Гурион, поглядывая то на табло отбытия, то на часы, хотя времени было еще предостаточно: приехали заблаговременно, за три часа, чтобы не стоять в очереди. Таню зарегистрировали, выделили, как она просила, место у окна, и – сдав багаж – они очутились в зале, который предшествовал проверке ручной клади, после чего следовал паспортный контроль.
Аэропорт напоминал Яну огромную нахохлившуюся птицу, многокрылого серафима. Объяснить эту ассоциацию он не мог, как ни тщился, но – тем не менее – эта образная связь прочно укоренилась в его сознании. Было что-то магическое, ведическое в этом грациозном комплексе, начиная от дежуривших на въезде улыбающихся девушек-охранниц вплоть до лихо закручивающихся тропок, стремительно несущих свой ток к верхнему ярусу, а тот уже яростно вбирал в себя непрестанно прибывающих пассажиров.
Если оглянуться, прежде чем оказаться в логове ликующих логотипов авиакомпаний, зычных дикторов, выкрикивающих, как на аукционе, очередные лоты с диковинными наименованиями, то можно было увидеть с высоты третьего этажа сферический сад диковинных библейских растений и скользящую вдали шершавую ленту шоссе, соединявшую Тель-Авив с Иерусалимом.
Все эти цветные картинки укладывались в сознание, как вещи в дорожный кофр, на самое его дно – с тем, чтобы на время забыть о них, насладившись сполна дарованным искусом дальней дороги.
Что касается Тани, то ей вновь стало грустно: сердце подпрыгивало, как будто проваливалось в какую-то зияющую пустоту; неизвестность норовила – то и дело – стиснуть ее в своих объятиях, дохнуть ледяным, щемящим духом, от которого становилось еще хуже, и – несмотря на то, что в огромные окна ломилось яркое солнце, казалось – на миг, – что наползает свинцовая тьма.
Безмерный куб аэропорта – так чувствовала Таня – пронизывали силовые потоки тоски; эти люди – они уезжают, – и навсегда?.. и она – среди них, и зачем? – как? – почему?.. мысли быстро-быстро несутся вскачь, беспорядочны, как молекулы в броуновском движении.
…Прибытие…
Отбытие…
Обещание чего-то неизведанного; во всяком случае, здесь, в аэропорту витала в воздухе еще и какая-то непредсказуемость момента, и Ян отнюдь не абстрактно это чувствовал, а всей своею кожей, каждой своею клеточкой.
Времена не выбирают, тем более если это время для раздумий, воспоминаний, время, которое можно потратить на сон, на походы по магазинам, на нервное курение.
Время, оставшееся до объявления на посадку…
…Тогда, когда она ему сообщила, что хочет прилететь к нему, в Иерусалим, он не был до конца уверен, что прилетит… Но… прилетела; и – вот – теперь улетает.
Странно, но Таня и Ян практически ни о чем не говорили все это время, пока минутная стрелка крутила свой хула-хуп, превращая минуты в нежеланные часы.
– Продолжается посадка на рейс номер 375, Тель-Авив… – Голос диктора был монотонен и убаюкивал.
– Таня, – Ян посмотрел на часы, – пора.
– Подождите. – Таня встала, подошла к Яну поближе и обняла его. – Мы словно рыбы, куда мы плывем, Ян?
Ян провел рукой по лицу.
– Вас что-то огорчило?
– Я увидел Циона у стойки регистрации, – поморщился Ян, – сначала решил, что мне показалось, но, когда вы встали, я вдруг увидел, как он прошел мимо нас. То ли сделал вид, что не заметил, то ли действительно не заметил.
– Мало ли куда он летит… – Таня улыбнулась.
– Он летит, по-моему, вашим же рейсом.
– И что?
– Я хотел его окликнуть, но вы встали и загородили мне обзор. А потом он исчез, как сквозь землю провалился.
– Вы же не думаете, что он, увидев вас, тотчас вернул бы вам долг.
– Конечно, не вернул бы. Я просто хотел посмотреть ему в глаза.
– Посмотрите мне в глаза.
– Вы плачете?
– Я буду всегда благодарна вам, всегда, Ян, я уважаю вас и преклоняюсь перед вами…
– Как поется в одной старой песне, «О любви не говори – о ней все сказано…» Не плачьте, а то я сам расплачусь.
– Шутите всё, – сказала Таня сквозь слезы.
– Шучу, – признался Ян, – берегите себя.
– Мы будем надеяться на встречу, правда? – Таня еще крепче обняла Яна, горячо поцеловав его в губы.
* * *
Вернувшись домой, после того, как Таня улетела, Ян, чтобы отвлечься, решил навести порядок в книжном шкафу: вспомнил, что ему понадобилась какая-то книжка по психологии – Юнга, а она, как назло, завалилась куда-то, пришлось перебирать все подряд. А на одной из полок обнаружился и альбом с фотографиями. Вообще-то большую часть снимков Ян давно оцифровал и перевел на диски, а до этого альбома сначала руки не доходили, а потом он куда-то делся. Спасибо Юнгу, нашелся. Фотографии в альбоме, в основном, были черно-белые, много детских, чуть поменьше – школьных, а одна – с мамой; это они сфотографировались после того, когда его записали в школу, в первый класс. Мама сидит на стуле, одетая в светлое платье с отложным воротничком, – молодая, красивая, а Ян стоит рядом с ней с папочкой в руках, такой серьезный, коротко остриженный, в шортах и рубашечке, похожей на матроску.
«Мама, мама…» – словно что-то кольнуло в сердце: вот уже десять лет, как ее не стало, а все никак не привыкнуть.
Время лечит?
Вранье все это, время только калечит. Вот и маму оно покалечило, приговорив к заурядной