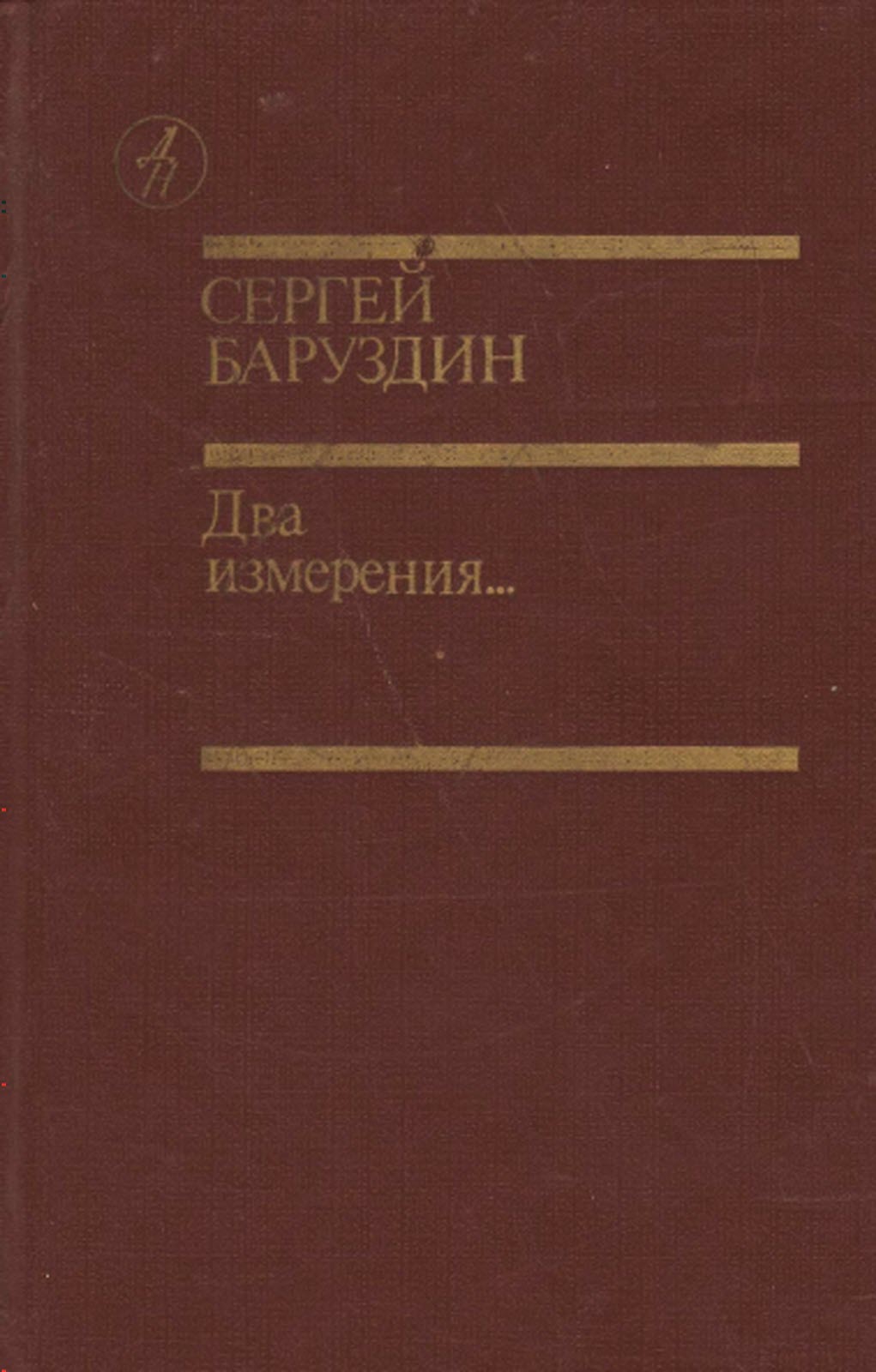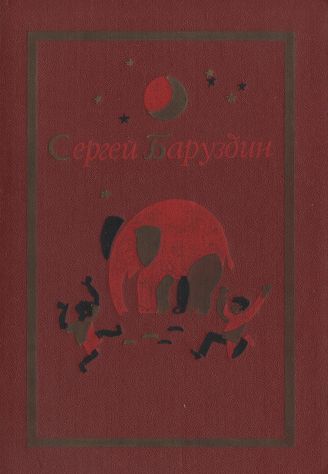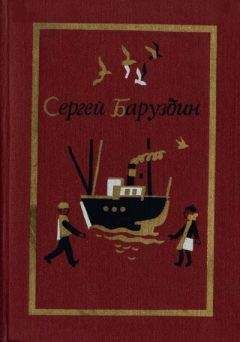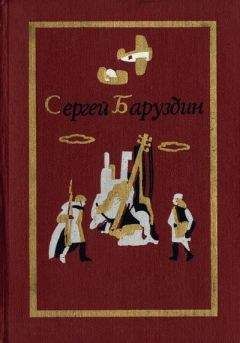Алеша. — Я к нему. А я — красноармеец Горсков… — И, сообразив, что представляется по-старому, добавил: — Старший сержант Горсков! А что?
— Ничего, доложу, — сказал санитар. — Командир твой не спит, но просил узнать, кто пришел. Счас… — Потом обернулся, добавил: — Ты сядь на табурет, ежели устал. А то стоишь, как на посту… Смешно даже. И оружие свое не держи так… Тут тебе — медицина. Жди, счас…
Алеша не сел на табурет, но уже чувствовал себя более свободно. Значит, Дудин жив. Это было каким-то внутренним оправданием тому, что он пришел сюда.
Шел сюда к лейтенанту Дудину, а думал о санинструкторе Кате-Катюше. Тянуло к ней! Санитар пришел, сказал:
— Товарищ лейтенант Дудин просил передать, что завтра, сегодня, что ль, иль завтра, нет, сказал «завтра», вернется к вам. Пущать к нему нельзя не потому, что он плох, а потому, что рядом тяжелые раненые… И еще, как он сказал, будем живы — не помрем. Хотел повидать тебя, но завтра увидит. И, дай бог памяти, ты кто? Художник, что ли? Сказал, что Горсков — так твоя фамилия? — художник и пусть рисует, пока тихо. Вот все. Вроде ничего не забыл… Кажись, ничего…
Алеша вышел на улицу. У калитки дремали раненые. Он походил, постоял, опять походил… Искал Катю. Ее не было.
И пошел к себе, когда уже стало почти светло.
Они отступали с боями в сторону Днепра. Потом в районе Каховки форсировали Днепр. Отступали под бомбежками и форсировали Днепр тяжело. Хоронили убитых.
На сей счет был строгий приказ командира полка майора Иваницкого, который они узнали от нижестоящего начальства:
— Своих героев хоронить всех! На поле боя не оставлять! Не бросать! С почестями хоронить! Отступаем, но вернемся. Слава их с нами! Прошу не забывать; списки погибших. Обязательно сообщать родственникам и близким. Обязательно. Даже когда тяжелая обстановка…
Полковая колонна была странная, конечно, если посмотреть со стороны. Бывшая 96-я горнострелковая дивизия до войны, наверное, выглядела не так. Да и их 141-й артиллерийский полк. И пусть техника и внешний вид сейчас были не те, бог с ним, с внешним видом! Появилась не залихватская казенная, лозунговая, слепая уверенность: «Нам все нипочем!», «Да мы их, этих задрипанных немцев!..» — а уверенность с отчетливым пониманием того, что война долгая, трудная, какой никто и не предвидел. И воевать, даже отступая, надо с умом… Конечно, кто-то не выдержал испытания новым мерилом. Люди, подобные, например, Дей-Неженко, кричавшие больше всех до войны, оказались далеко не лучшими солдатами. Другие с честью погибли. Как командир дивизии Скворцов, как многие бойцы и командиры дивизии, которые вступили в бой там, на новой границе, 22 июня и не вернулись оттуда, как Проля Кривицкий, как Ваня Дурнусов, как Ивась Лада, как другие «западники», похороненные потом в братских могилах…
Алеша сидел на Костыле, за ним, где-то в глубине колонны, — он знал это! — Лира тащила один-единствен-ный оставшийся чудом зарядный ящик.
Каховка! Странное ощущение!
Про Каховку знали до войны по песне Светлова:
Каховка, Каховка!
Родная винтовка!
Горячая пуля, лети!
И дальше:
И девушка наша
В походной шинели
Горящей Каховкой идет…
Вот она — Каховка! Неужели это в самом деле?
И колонна есть колонна. Всадники. Орудия.
Но сейчас Каховка позади…
Один зарядный ящик — все, что сохранилось.
Дальше лошади со странными беговыми дрожками, извозчичьими пролетками, колхозными подводами — примитивными, на обычных колесах, и самыми новейшими, длинными, к которым никто не привык, на резиновых шинах.
И в дрожках, и в пролетках, и на подводах — знакомых и незнакомых — было оружие: снаряды, патроны… Вся положенная в армии амуниция. И — раненые. Те, кто не попал в госпиталь, но ходить не может…
А медсанчасть с хозвзводом тянулась в конце на двух трехтонках — грузовиках «ЗИС-5».
Там, видно, была и Катя.
Катя-Катюша, которую он, Алеша, так и не повидал больше в медсанчасти, когда ходил туда под утро.
В Марфинке, куда они пришли под вечер, началась артиллерийская перестрелка. Без конца меняли огневую позицию, стреляли, но рядом стоял другой артполк. Его огонь был активнее.
Лейтенант Дудин, пытаясь выяснить обстановку, хотел с огневой позиции позвонить на наш НП. Выслали вперед взвод управления — разведку и связь. Но ничего не добились. Перешли немцы Днепр или не перешли? А может, перешли в другом месте?
Батарея и их, дудинский, расчет продолжали вести огонь за Днепр. Стояли рядом, обосновавшись в приднепровских балках.
Через Днепр переправлялись беженцы. Не те, западные, которые были в Долине и Кутах, в селе Ивася и вплоть до старой границы, а те, кто жил, как и они, при Советской власти. Дети, бабы, старики шли впереди отступающих и позади них. Шли пешком, только с тележками и детскими колясками, без лошадей и подвод, оборванные, замызганные, с плачущими детьми на руках и по-взрослому серьезными малолетками рядом.
Дудин командовал расчетом, который бил по невидимым немцам. Потом вдруг крикнул:
— Отбой!
И гнал к Днепру спасать беженцев.
Беженцы переправлялись на лодках, на плотах, на бревнах, на досках, а то и вплавь: тонули, гибли, но кого-то вытаскивали на берег. Детей и женщин в первую очередь.
Алеша, Костя сами насквозь были мокрые. В воду бросались в одежде. В ботинках и обмотках. Снимать — некогда. Кто-то ревел от радости. Кто-то кричал, потеряв в Днепре близких. Немцы, слава богу, прекратили огонь. И неожиданно все стихло. Перешли немцы Днепр или не перешли? Могли перейти справа. Могли слева. Но тут, на их участке, — явно нет. Марфинка — большое село. Зелено-белое. Зелень — сады, огороды, деревья, трава. Белое — хаты.
Хаты — целые. На многих плакаты первых военных дней, распоряжения военкомата, написанные прямо на стенах лозунги. А сверху безбрежное, чистое небо, и вокруг поля, уходящие к горизонту, со стогами прошлогодней соломы и воронками от немецких авиабомб. Воронки уже заполнены водой. Тополя шелестят на улицах Мар-финки, высокие, подпирающие небо, и растет вдоль дорог кустарник — то ли боярышник, то ли что-то другое с не созревшими еще беловатыми ягодами.
По канавам бродят куры и утки, лежат на солнцепеке разомлевшие собаки и кошки, вокруг конского помета крутятся жирные воробьи.
Изредка по дороге проедет скрипучая телега или проскочит мальчишка на лошади с почтальонской сумкой на боку, хотя неизвестно, кому и откуда сейчас ждать почты.
Глухо гудят пока электрические провода на почерневших столбах,