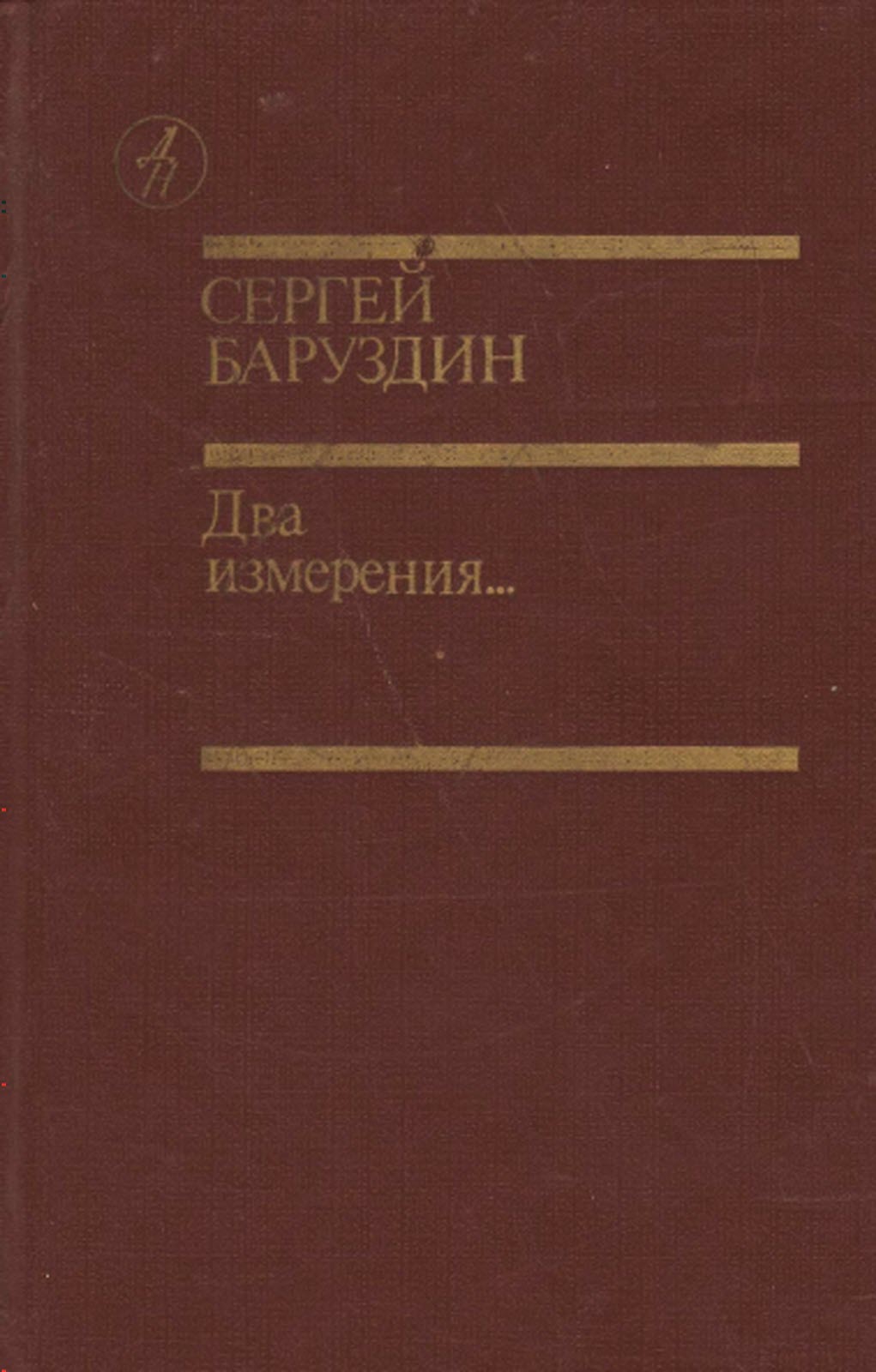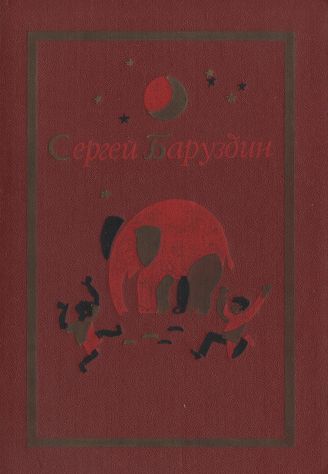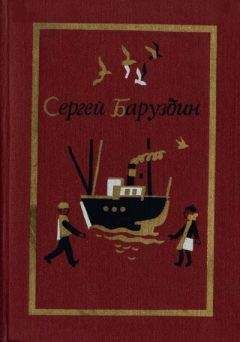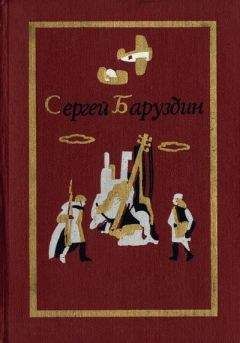вперед! А тут…
Он искал Катю, а Катя нашлась сама. Выбежала не из белых санитарных палаток, а откуда-то слева, и он сразу узнал ее.
Бросил шоферов, ничего не понявших, и рванул к ней, боясь, что вдруг ошибся.
Катя в расстегнутой гимнастерке, без ремня, внезапно исчезла. Он пробежал мимо белых палаток туда, левее, где она вроде появилась, стремительно бросился дальше, вглубь, ничего не понимая, и вдруг, увидев ее, ужаснулся: Катя, подняв юбку, присела по своим делам…
Это потом — в сорок втором и особенно после сорок третьего, в сорок четвертом и сорок пятом, когда женщин на войне будет больше, все станет гораздо проще:
«Мальчики, напра…!»
«Девочки, нале…!»
А на открытых местах, в каком-нибудь безлюдном поле:
«Мальчики, стоп! Прикройте! Только, чур, спиной! Мы быстро!»
Сами «мальчики» тогда не очень стеснялись девочек, делали все, что нужно, — под колеса машин и телег, в кюветах и за любой ближней постройкой, а девочек прикрывали. И выстраивались на открытой местности — спиной к ним. Ведь женщинам на войне было тяжелее, чем мужчинам.
Но это все потом.
А тут Алеша обалдел.
Отвернулся. Шагнул назад. Но боялся потерять Катю. А вдруг это и не она? Если ошибся?
Катя сама подбежала к нему:
— Ты?
— Я, а что? — только и мог мрачно сказать он.
— Ты с ума сошел! Тоже выбрал подходящий момент!.. Тебе не стыдно?..
Но глаза ее были такие, что он тотчас забыл о неловкости и ошарашенно смотрел на нее.
Катя была явно в тысячу раз умней его.
— Нашел меня, художник? Все-таки нашел?
Он молчал.
Потом, словно вспомнив что-то, с трудом выдавил:
— Тихо сегодня…
Она ответила резко:
— Тихо бывает перед бурей… О Дудине твоем еще спроси! Жив твой Дудин и будет жить, если…
Алеша сказал еще одну явную глупость:
— Дудин спит сейчас… Я отпроситься хотел, но он спит…
— Зайди, раз уж пришел. Только не перепутай: ко мне, а не к Дудину…
Рядом с большими белыми санитарными палатками стояло странное на вид небольшое темно-зеленого цвета сооружение из двух или трех плащ-палаток.
— Влезешь? — спросила она.
Он влез, хотя это жилье явно не было рассчитано на его рост. Катя — маленькая, а он — метр восемьдесят три.
В палатке было темно и тесно, но Катя быстро что-то сообразила и зажгла свет: гильза от патрона с фитильком, опущенным в полулопнувший граненый стакан. Алеша в первый раз увидел такое сооружение для огня.
А Катя была деловита, и потому он еще больше смущался.
О чем только он не передумал, когда рвался к ней, сколько раз мысленно прорепетировал те первые, самые нужные слова, которые он скажет при встрече. И вот эта встреча случилась, а он сидел молча.
— Выпить хочешь? — спросила она. — У меня есть спирт… По глотку можно…
Он хотел сказать «хочу», ибо выпивать приходилось и в войну, и до войны, в сороковом, хотя тогда хитрили и делали это подпольно, но снова ничего не сказал.
Катя налила:
— На! Давай выпьем! Не могу только понять, что ты во мне нашел…
Сделала она это с очень уж нарочитой бравадой, и Алеша понял, что она тоже смущена и растеряна.
Он выпил. Половину или даже больше граненого стакана. Чуть не задохнулся.
Из глаз Кати посыпались слезы, она судорожно стала хватать ртом воздух.
— Ну как, художник? — наконец выдавила она. — Девяносто шесть градусов!
Он, казалось, не опьянел, но сразу осмелел:
— Какой я художник!
— Ладно, ладно, я шучу, — сказала Катя. — Кстати, это ведь я от Кучкина узнала, что ты рисуешь. Помнишь? Он начальником клуба у вас был…
— Конечно, как не помнить! Такой…
— Похоронили мы его вчера вечером. Вместе с другими. Двадцать три человека… Опять — братская.
— Как? — Алеша даже не понял.
— Вот так. Шальная мина, в живот, — пояснила Катя. — И знаешь что: очень прошу, береги себя!
Это она произнесла умоляюще, как заклинание.
…Чуть светила коптилка в крошечной палатке.
Алеша целовал Катю, она почти не противилась.
…И весь мир словно исчез, остались только он и Катя, шептавшая какие-то ласковые слова… Он почти не слышал этих слов, но потом в памяти вдруг резко обозначилось:
«Зачем я тебе, такая старая, нужна?»
«Я же, дурачок, намного тебя старше!»
Что он говорил, не помнил. Вроде оправдывался.
…Они расстались, когда было совсем светло. То ли она заторопилась, то ли он. Может, и он?
Катя оделась, привела себя в порядок и вдруг сказала:
— А ведь ты не меня любишь!
Он не понял. И ответил обиженно и явно невпопад:
— Почему? Зачем ты так?..
Она улыбнулась, и, кажется, грустно:
— Да нет, просто так… А ведь я тебя еще с Долины…
Алеша снова повторил:
— Зачем ты? Почему?
И добавил, когда она промолчала:
— Мне так хорошо с тобой. Подумаешь — четыре года! Разве об этом надо сейчас говорить!
— Не о том я, — Катя подняла глаза. Ресницы чуть горько и обиженно дрожали. — Ведь замужняя я… Была… И дочка у меня, Ксана… С мамой осталась в городе Юрьевце. Слышал такой? Дочке пятый год пошел. А Юрьевец — на Волге. Ивановская область.
Алеша ничего не понимал. Дочка. Ну и что! Юрьевец — не слышал, но Ивановскую область, конечно, знает. Не был, правда, там, но знает… Так в чем дело?
— Катюша, о чем ты? Неужели ты думаешь… — начал он.
— Береги себя, — остановила его Катя. — А я о чем? Ну, как тебе сказать… ты ласкал меня, а называл Верой, Верочкой…
Вечером пришло долгожданное письмо из Ленинграда. От мамы и баб-Мани. О Вере в письме ни слова.
У лошадей, старых, довоенных, красноармейских лошадей, сейчас, в войну, проявилась поразительная реакция — и привычка! — на выстрел. У сохранившихся в живых порой больше, чем у них, красноармейцев, было спокойствия, выдержки и готовности сделать все, что нужно, — без суеты и паники…
Но вот на выстрел или даже в предчувствии его лошади вздрагивали, а то и вставали на дыбы.
Ко всему они так трудно привыкали до сорок первого… А сейчас тянут на себе такое, что им, горновьючным, до войны и не снилось. И как тянут!
Глупо сейчас думать о лошадях, когда гибнут люди, но он, Алеша, думает…
Он любит лошадей и до войны мечтал о всякого рода живности, О собаке и кошке. Об аквариуме с рыбками и клетке с птицами. О морских свинках и черепахах. Об ужах и ящерицах. У некоторых из его соучеников по школе такие животные дома