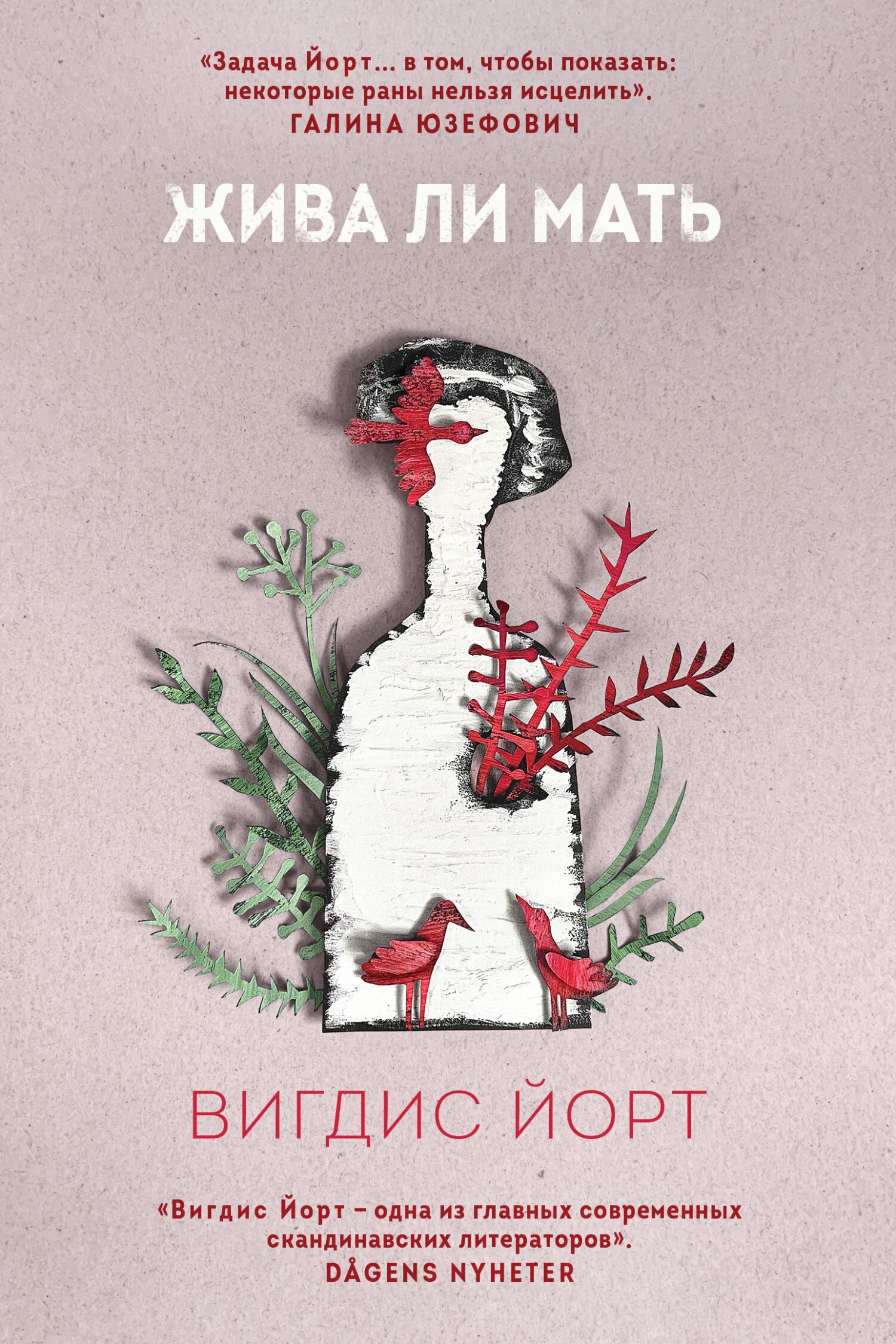отсвет, и любуется результатом своих трудов. Она отряхивает землю с рук, поднимает варежки, но не надевает, смотрит на мать, мать стоит неподвижно, со стороны кажется, будто она закрыла глаза. Помню тот единственный на моей памяти раз, когда мать взбунтовалась – это случилось, когда она звала меня особенной девочкой и я чувствовала, что меня замечают, мы были на кухне одни, мать возле плиты, я, сидя за столом, рисовала. Матери нравилось, что я рисую, она советовала рисовать почаще, когда она сама ходила в школу, то рисовала лучше всех, она рассказывала мне об этом и показала, как рисовать розы: лепесток за лепестком, постепенно сужая круг. Мать бросила на меня взгляд, показавшийся мне шутливым, и спросила, могу ли я нарисовать бабушку Маргрету, отцовскую мать.
Она встала у меня за спиной и наклонилась, щекоча косой мне шею – я приняла это за ласку. Я нарисовала прямой пробор, строгие глаза, большую брошку на груди и, наконец, недовольно опущенные уголки губ, а потом вошел отец, и мать съежилась, отец, увидев рисунок, помрачнел, мать побледнела и сделала вид, будто это все ее не касается, «У тебя совсем уважения нет», – сказал отец, схватил рисунок и разорвал его, я ушла к себе в комнату, откуда слышала отцовский голос, а после все стихло, и я представила, как мать распустила волосы и полностью стала принадлежать отцу, впрочем, возможно, я все выдумываю, потому что нуждаюсь в этом.
Рут смотрит на мать, кажется, она вздыхает, быстро набирает воздуха и быстро, словно разочарованно, выдыхает его. Рут складывает вещи в рюкзак, она проделывала это уже много раз, каждую неделю в течение четырнадцати лет, вместе с матерью, и знает, куда выбросить старую кладбищенскую свечку, она хлопочет в метре от меня, я слышу, как свечка со стуком падает в ящик, если бы ты только знала, что твоя особенная девочка наблюдает за тобой из-за кустов. Рут подходит к матери и встает рядом, несколько секунд они стоят вместе, Рут обнимает мать за плечи, мать приходит в себя и будто бы поникает, она качает головой и говорит – я тоже это слышу: «Ну что ж».
Но дай посмотрю в твои глаза! Твои глаза, большие и темные! Они холодны, это я знаю, да! Но дай заглянуть в них, может, в глубине прячется мысль обо мне, крохотная добрая мысль обо мне!
Туман опускается ниже, начинается дождь. Рут снимает рюкзак и вытаскивает из него складной зонтик, она все предусмотрела. Она открывает зонтик над матерью, и они идут еще медленнее, еще теснее прижавшись друг к дружке, и огромные, с виноградину, капли бьют меня по голове и стекают за воротник, Рут и мать возвращаются не тем же путем, каким пришли сюда, они огибают большое дерево за могилой отца, а туман низким потолком давит на землю. Рут и мать скрываются за черным покачивающимся зонтиком, они похожи на привидение, похожи на смерть из фильма Ингмара Бергмана, неуклюжую и неумелую, колченогую и уставшую смерть, но оттого еще более страшную, за этой смертью я не пошла. Я села на землю, прижавшись спиной к кустам, чувствуя, как влага, словно в прежние времена, просачивается сквозь штаны и трусы. Я сижу под дождем на кладбище, там, где он похоронен, и ковыряю землю, ищу квадратную плиточку, лучше бы синенькую, а капли разбиваются об меня, текут по телу, они тяжелее, чем обычные капли, а небо более серое, чем бывает в обычный дождь.
Мне тогда исполнилось двенадцать, и я получила почтой пятьдесят крон – их прислала папина мать, бабушка Маргрета, которая время от времени наведывалась к нам с королевским визитом из Бергена, заставляя пламя из Хамара покрываться румянцем. Отец посоветовал мне сберечь эти пятьдесят крон, но я не послушалась. На следующий день уроков в школе не было, мать пошла к врачу и взяла меня с собой, а по пути назад мы заглянули в книжный магазин, где матери понадобилась бумага для писем – она постоянно переписывалась с дядей Хоконом и тетей Огот из Хамара. В книжном имелся отдел с принадлежностями для рисования, и я влюбилась в коробку карандашей: сто пятьдесят различных цветов за сорок девять с половиной крон. Пятидесятикроновую банкноту я захватила с собой. Мать повторила фразу отца, которую он произносил, когда мы были недостаточно экономны: мот, которому неймется, плачет, когда все смеются. Мне было двенадцать, я сказала сама себе, что мне двенадцать, а маме сказала, что бабушка Маргрета из Бергена, позвонив по обыкновению на день рожденья, велела потратить деньги так, как мне захочется, это было неправдой и все равно правдой. В каком-то отношении мне стало легче оттого, что я больше не мамина особенная девочка, хоть это и было приятно. Я купила карандаши. Когда мы шли домой, мать повторила: мот, которому неймется, плачет, когда все смеются.
Рисуя, я сбегала от того, что было мною или, возможно, матерью.
Рисуя, я сбегаю от того, чем являюсь, или, возможно, от матери.
Я иду по проселочной дороге неподалеку от избушки, чувствуя, что в ботинок мне забился камушек. Я не обращаю на него внимания. В лесу есть знакомый мне камень, он лежит в конце тропинки, там, где она выходит на луг, этот камень гладкий и плоский, в солнечные дни он нагревается, порой я ложусь на него и отдыхаю, но двинувшись дальше, я снова чувствую камушек в ботинке, это мать.
Я пишу Джону: «У тебя все в порядке?» Только это, ничего больше, подожду до воскресенья, важно не переборщить.
Мне тогда было тринадцать. Я вернулась из школы, стол в гостиной был накрыт, на следующий день ждали гостей, к счастью, всего восемь, не больше, важных гостей, богатых, так сказала ужасно взволнованная мать, мне казалось, шикарно, что мои родители знакомы с богатыми и важными людьми. На кухонном столе лежали белые квадратные карточки с золотым краем, банкетные карточки, на которых мне предстояло написать имена гостей и нарисовать листочки. Она отдала это распоряжение совершенно обычным тоном, словно просила заправить постель или прибраться в комнате, но на сердце у меня потеплело: мать считает, что я пишу и рисую красивее, чем она, я почувствовала себя польщенной, и меня захлестнула любовь к матери. Я сбегала за коробкой со ста пятьюдесятью карандашами и подумала, что мама еще пожалеет о сказанных тогда словах о моте. Она написала имена гостей печатными буквами на листе бумаги, а