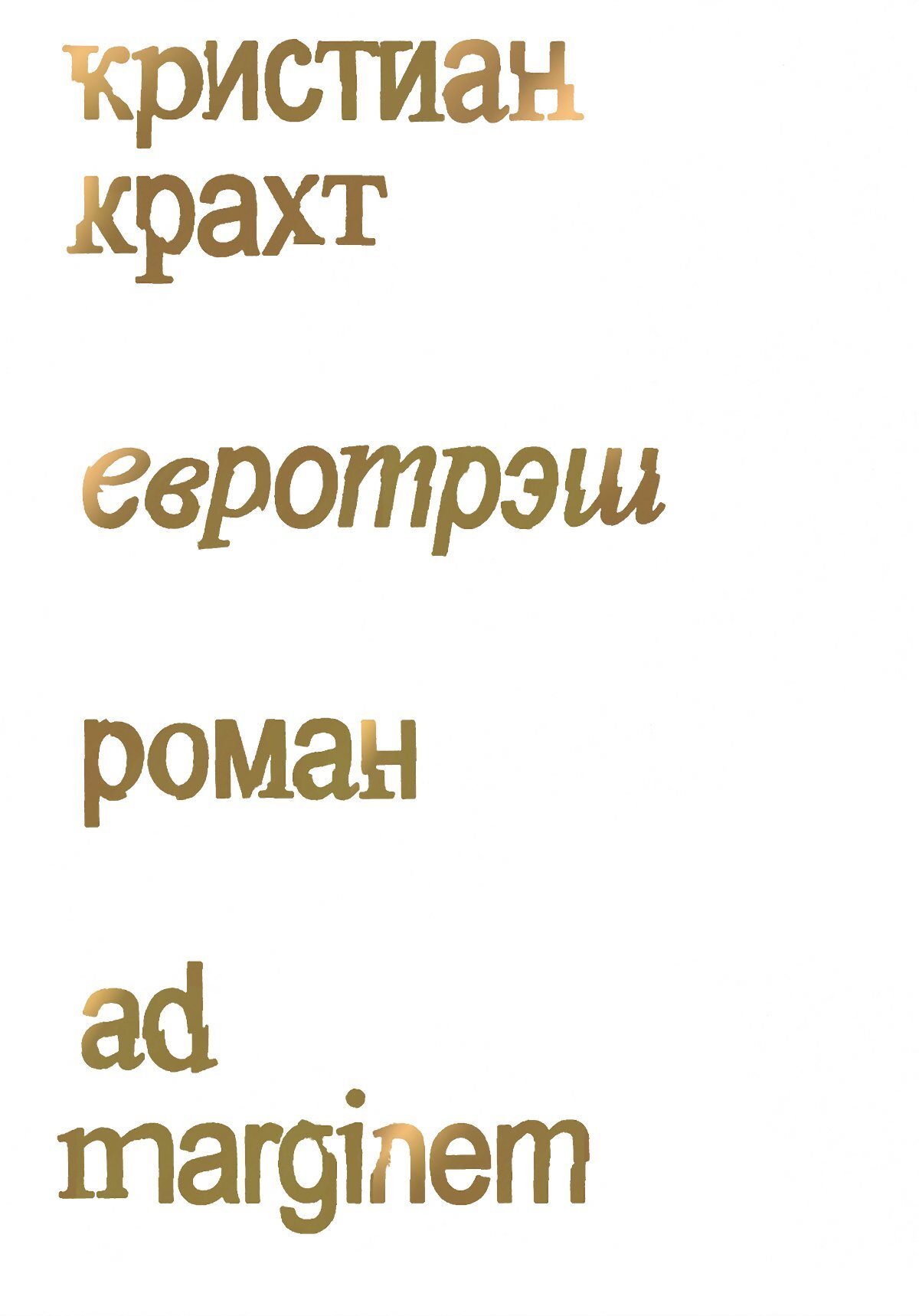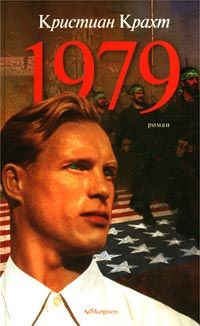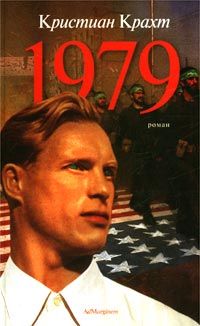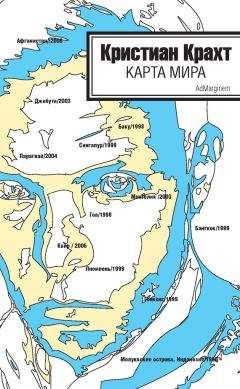на станции в женский туалет?
– То мешало, месье, что я не умею менять этот чертов мешок сама! – крикнула она.
– Значит, теперь научишься.
– Нет.
– Да.
– Не будь таким бессердечным! Ты прямо как твой отец, такой же холодный и бесчувственный. И глаза у тебя его. Глаза у него были всегда ледяные, нечеловеческие, голубые, как лед, как у робота. И ты такой же черствый и холодный как лед.
– Глаза у меня зеленые.
– При чем тут это? Ты же не хочешь уморить тут родную мать жестокой смертью? Я сейчас умру.
– Это еще почему?
– Да потому, что врачи мне всегда твердили после каждой операции: мешок обязательно надо менять. Ни в коем случае не забывать это делать. Потому что, если мешок переполнится, возникнет затор, и всё это дело потечет обратно в живот, и человек буквально захлебнется изнутри собственными экскрементами.
– Правда, что ли?
– Конечно, правда, сынок. Ты же не хочешь, чтобы такое случилось с твоей матерью? А поскольку у меня такая жуткая акрофобия, понимаешь, у меня всё время вроде как понос от страха. Так что мешок наверняка уже до краев. И вдобавок мы застряли тут на высоте в этой гондоле без одеял на ночь, без еды и без питья. То есть у нас есть еще полбутылки водки. Но воды нет, я об этом.
– Воду я могу добыть – открою окно и выставлю на дождь вон то мусорное ведро.
– Отлично. Молодец, ты начинаешь соображать. Это правильно.
– Ты же вчера говорила, что никогда никуда не выходишь без воды.
– Я такое говорила? Не помню.
– Ну как же, когда я тебе рассказывал историю про Мэри Уотсон, которая умерла от жажды вместе со своим младенцем на острове Ховик.
– Ничего нет лучше твоих историй. Если мы выберемся отсюда живыми, ты ведь расскажешь мне еще историю? Пожалуйста!
– Три.
– Хорошо, три, – улыбнулась она. – А сейчас помоги мне со стомой.
Я опустился перед ней на колени на полу кабины, осторожно приподнял ей куртку на животе, расстегнул нижние пуговицы блузки и добрался до бежевого мешка, и в самом деле полного до краев. Она смущенно смотрела поверх моей головы. Снаружи дождь перешел в снег, капли уже не стучали по стенам гондолы, их сменили бесшумные снежные хлопья.
– Так, готово. Теперь еще и снег пошел. В сентябре!
– Знаешь, кто это был? – спросила она.
– Ты о ком?
– Те три женщины там наверху. На смотровой площадке.
– Нет. А ты что, их знаешь?
– Это были ведьмы из «Макбета».
– Да ладно тебе.
– Они самые. Летим в сырой, гнилой туман [33].
– А откуда они взялись в нашей истории?
Я подошел к окну, открыл его и выбросил полный мешок в снежную мглу. Она заправила блузку обратно в брюки и взглянула на меня. Мне даже показалось, будто в ее взгляде мелькнуло что-то вроде благодарности.
– Это ты должен был их самих спросить, – сказала она. – Они бы тебе наверняка всё объяснили.
– А почему они тогда не приворожили улетевшие деньги обратно?
– Деньги! Думаешь, таким могущественным существам есть дело до каких-то там франков? Ведьмы символизируют превращение. Их появление не сулит ничего хорошего.
Вот такую чушь приходится выслушивать, причем постоянно. Мне это претило. Вечно это полузнание в сочетании с уверенностью, что надо только преподнести всё побойчее, и никто ни в чем не усомнится. И в то же время она обладала вторым зрением. Ничего с ней не поймешь, с моей матерью, и вообще уже ни с чем ничего не поймешь.
– Надо что-то предпринять, чтобы нас отсюда достали.
– Дай мне водку, – сказала она.
– Что-то мы с тобой ходим по кругу.
Часа через два эта штуковина снова поехала как ни в чем ни бывало. Раздался короткий, резкий сигнал сирены, потом толчок – и мать, чьи плечи я укрыл тем самым коричневым свитером из грубой шерсти, потому что она начала уже дрожать от холода, несмотря на стеганую куртку, сказала, что мы сейчас поедем – и так и случилось.
Гондола спокойно и уверенно проделала остаток пути до нижней станции. Здесь внизу не было снегопада, здесь светило солнце, да еще как. По сравнению с тем, где мы были всего несколько минут назад, здесь было теплее градусов на двадцать. Мы вышли из кабины в золотую, приветливую осень. Коровы жевали свою жвачку. Луга сияли яркой зеленью, как на открытке. Мать собиралась громко высказать свое негодование, но никаких объяснений или извинений от персонала канатной дороги не последовало. К нам вышел на минуту лишь один сотрудник, криво улыбнулся, пожал плечами и снова скрылся в своем кабинете.
– Швейцарцы – они такие, – вздохнула мать. – Могут посоперничать с восточноазиатскими народами в стремлении избегать неприятного.
Она прищурилась от солнца, порылась в сумочке и надела солнечные очки.
– Вот как? Да, тут ты, пожалуй, права.
– Без всякого сомнения. Они просто уходят от проблем. Не потому, что боятся потерять лицо, а просто потому, что они им некстати, проблемы.
– Но ведь мы с тобой тоже швейцарцы.
– Ну и что? Швейцарцы говорят себе, что на жалобы можно не обращать внимания, потому что всё равно приедут новые туристы. Так было в девятнадцатом веке, так было в двадцатом веке, и так будет в Швейцарии всегда.
– Окей.
– Забирай свой колючий экосвитер, – она кончиками пальцев сняла его с плеч. – Он слишком теплый, да еще и воняет овчиной.
– Я купил его позавчера в Цюрихе. Он мне что-то напомнил.
– Не понимаю, как можно надеть такое уродство. Раньше-то ты всегда выглядел цирлих-манирлих, в этой твоей барбуровской куртке.
– Смотри-ка, мама, там стоит наше такси!
– Конечно, куда оно денется. Я так захотела.
– Хотел бы я быть, как ты.
– Так ты уже, причем давным-давно. Тат твам аси.
Мы медленно шли через парковку к дожидавшейся нас машине, водитель, похоже, уснул. Он отодвинул назад переднее сиденье и лежал там с открытым ртом и закрытыми глазами, как спокойное большое насекомое. Я постучал костяшками пальцев по стеклу, он вздрогнул и подскочил, словно ему приснился странный сон, а потом открыл окно.
– Как хорошо, что Вы нас дождались! – я открыл перед матерью заднюю дверь и помог ей сесть.
– Вас долго не было. Нашли Вы эдельвейс, мадам? – спросил водитель.
– Лучше не спрашивайте, – ответила мать. – Там наверху был просто кошмар какой-то. Сперва мы наткнулись на ведьм, потом видели лису, а потом еще канатная дорога сломалась.
– Сожалею, мадам! – отозвался водитель.
– Это не Ваша вина. Я