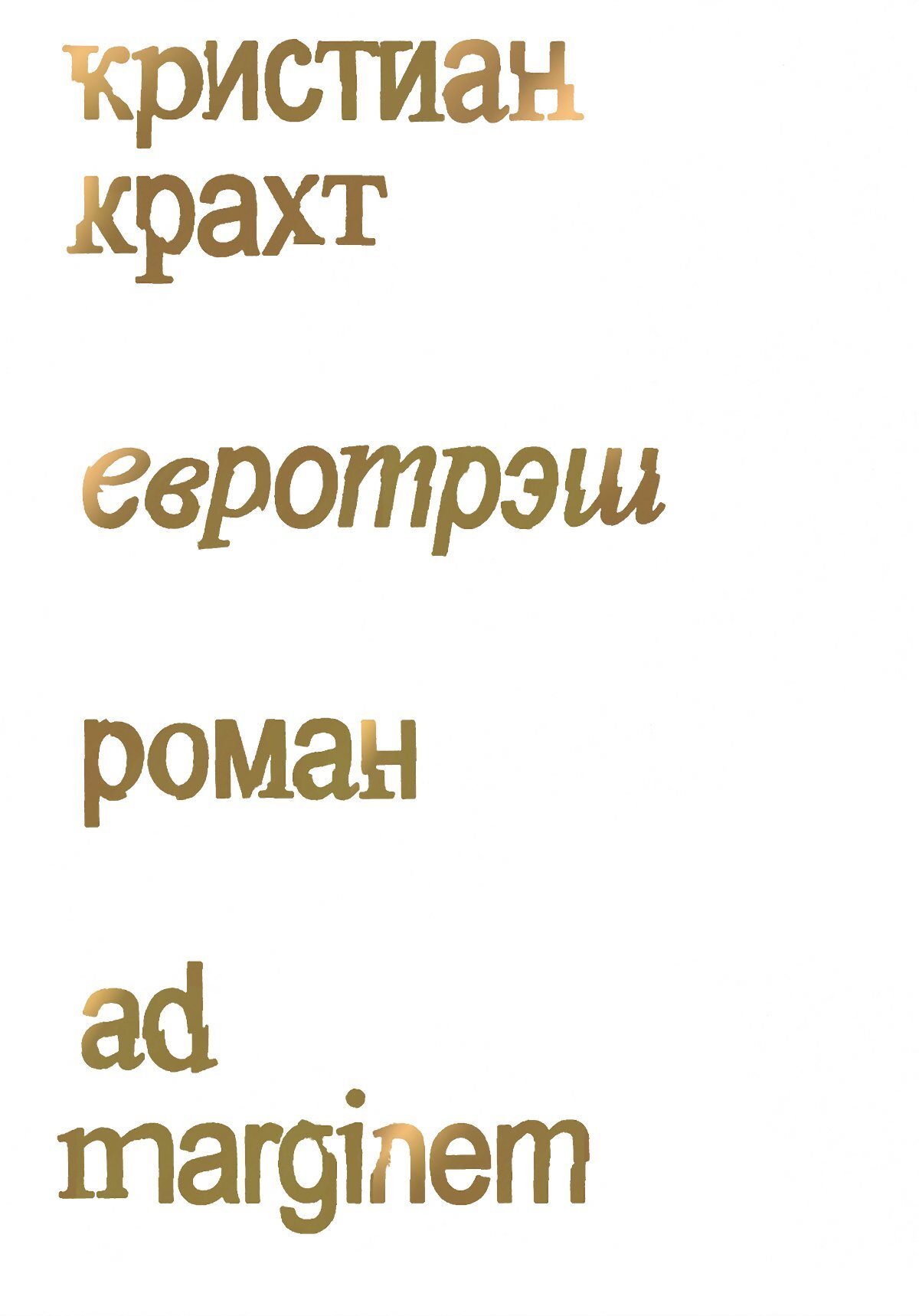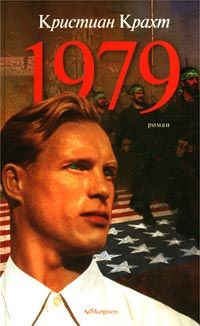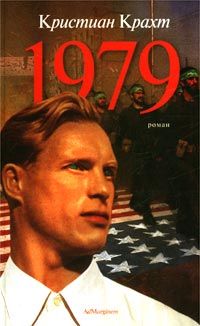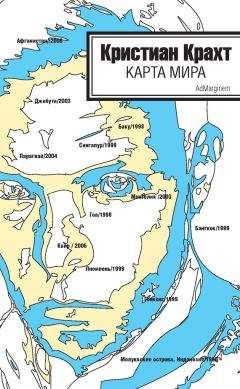думала, я умру в этой металлической коробке между небом и землей. Это всё на совести моего сына. Ладно, поехали.
– Куда прикажете Вас отвезти?
– К немецкой границе.
– Мама.
– Да, теперь я хочу в Германию. Хватит с меня Швейцарии. Отвезите нас, пожалуйста, в Мюнхен.
– Тогда нам нужно сперва уговориться о цене.
– Еще тысячу франков?
– Я уже прождал Вас четыре часа. Четыре тысячи – это будет ближе.
– Договорились, – сказала мать.
– А может, пять дадите?
– Ладно, за то, что Вы нас дождались.
Я не стал вмешиваться в торг, поскольку чем быстрее эти деньги куда-нибудь денутся, тем лучше. Но вот в Мюнхене нам делать нечего. Совершенно нечего. Я сказал водителю, чтобы он выезжал на Цюрихское шоссе в сторону Мюнхена и выразительно подмигнул ему при этом в зеркало заднего вида. Он благодушно подмигнул в ответ. Ему, наверное, было наплевать на двоих психов на заднем сиденье, наверное, его и вправду интересовали только деньги.
– Вообще-то я хочу совсем не в Мюнхен, я хочу на Зильт. На рыбачью лодку, как Толстой. К честным людям, которые всё еще работают руками, а не в интернете и всякое такое, – сказала она.
– Ну так пожертвуй свои сумки Феррагамо и свитера Феррагамо сирийским беженцам. А заодно и свои деньги.
– Да я бы с удовольствием. Но представляешь, какой это был бы цинизм? Одевать беженцев в мои вещи? И вообще – а как я повезу им вещи и деньги? На своем мерседесе? Так у меня же отобрали права.
– Я просто не верю своим ушам. А кто виноват в страданиях беженцев?
– Не знаю, кто в них виноват. Асад? Саддам Хусейн?
– Ты в них виновата, и я в них виноват. Все, кто заливает полный бак бензина, живет на цюрихском «Золотом Берегу», пьет белое вино, а потом отправляется за покупками в «Труа Помм» или «Гридер». Мы оба прямо и непосредственно виноваты во всех бедах мира.
– Даже если питаться мороженым рыбным филе в панировке?
– Да, боюсь, что даже в этом случае.
– А если даже на это не раскошеливаться, а есть один плавленый сыр в пластинках?
– Не поможет.
– А если эти ломтики держать в холодильнике, пока они не испортятся, а потом всё-таки подъедать? – улыбнулась она.
– Ну что ты ребячишься, – я не смог удержаться от ответной улыбки.
– А на грузовик у Вас случайно нет прав? – спросила она водителя.
– А что Вас интересует, мадам?
– Может быть, Вы бы как-нибудь отвезли мои вещи в Сирию? Мы бы Вам хорошо заплатили.
– Ты бы хорошо заплатила. Я – нет. Пожалуйста… извините, пожалуйста, мою мать.
– Pas de quoi [34].
– Смотри-ка, он говорит по-французски! Это же просто находка – в Сирии тоже понимают французский, из-за Ливана.
– Мама, по-французски там говорили в шестидесятых годах прошлого века.
– Знаешь что? У тебя тяжелое нарциссическое расстройство.
– У меня?
– Да, у тебя.
– Так мне ехать? – спросил водитель.
– В Цюрихский аэропорт, пожалуйста.
– Да, в аэропорт, пожалуйста, только не к таким ублюдкам-грабителям, как сегодня утром. Но раз мы не едем в Мюнхен, то поездка не может стоить пять тысяч франков, правда?
– Меня и четыре вполне устроят, мадам, – ответил водитель.
– Тогда поезжайте, пожалуйста, другой дорогой, через Эгль, чтобы выехать на шоссе где-нибудь возле Монтрё. Тебя так устроит, мама?
– Да, что угодно, только не через Гштад! Я никогда, никогда не хочу больше видеть это ужасное место.
– Договорились.
– Отлично, сынок! Принять окончательное решение всегда очень полезно. Гштад я в этой жизни больше не увижу.
И мы снова тронулись в путь, налево и вниз по серпентину в долины французской Швейцарии. Спустя довольно продолжительное время возникло первое предчувствие Женевского озера; глубокую впадину в земной поверхности всегда угадываешь чутьем еще до того, как увидишь. Поначалу окрестности казались такими же, как в Бернских Альпах, приземленными, разумно посредственными. Но постепенно пейзаж менялся, справа и слева показались первые виноградники, суровость и насыщенность уступили место очарованию.
Погода была великолепная, мать была теперь, похоже, в отличном настроении, и я про себя принял решение. Я просто не буду больше реагировать на ее колкости, и всякий раз, как она мне скажет очередную гадость, стану отвечать что-нибудь совсем другое, милое и приятное, не имеющее никакого отношения к тому, что она сказала. Правда, в ту же минуту я вспомнил, что уже принимал то же самое решение вчера, а если быть честным, то и недели, и месяцы назад, а если быть совсем честным, то вот уже сорок лет я именно так с ней и обходился. Может быть, думал я, может быть, она и правда вовсе не сумасшедшая, а просто злобная.
Незадолго до поворота на Монтрё мне подумалось, что как раз тут она жила в молодости, до того, как вышла замуж за моего отца. И мне вспомнилась одна из моих любимых книг, Doctor Fischer of Geneva or the Bomb Party. Этот доктор Фишер, живший в большом доме на Женевском озере и приглашавший к себе гостей, чтобы их унижать, в моем воображении всегда связывался с отцом – возможно, зря.
– Ты ведь тут жила девушкой.
– Не помню, – сказала она.
– Ну как же, ты здесь в Монтрё учила французский. Задолго до моего рождения.
– Девушкой я тут вряд ли могла оказаться.
– Ну, значит, молодой женщиной. Ты правда не помнишь?
– Нет.
– Ты наверняка хоть раз была в Tea Room.
– Никогда в жизни. Я не пью чай.
– Ты ведь умеешь видеть будущее – почему же тебе так трудно заглянуть в прошлое?
– Мне нужны зацепки. Иначе я назад ничего не вижу.
– Координаты.
– Да, истории какие-нибудь. Что я тут делала, по твоему мнению?
– Ты училась в школе хороших манер в Монтрё. В finishing school.
– И чему я там выучилась?
– Наверное, правильно накрывать на стол, например. Нож справа, вилка слева, салфетка под ней. В верхнем ряду стакан для воды справа, рядом с винными бокалами. Столовую ложку рядом с рыбным ножом, десертную ложку сверху над тарелкой.
– Да, припоминаю, Кристиан. Такой чудесный порядок. Я так всегда и делала у нас дома в гштадском шале и в Кап-Ферра. Когда у нас бывали гости, что, впрочем, случалось крайне редко, потому что твой отец, аутист и психопат, гостей не переносил.
– А еще ты наверняка училась поддерживать застольную беседу. И красиво расставлять цветы. Может быть, еще и готовить. Может, отсюда у тебя такая ненависть к высокой кухне?
– Гм. Не исключено.
– Вспоминаешь?
– Смутно. Что-то такое всплывает, когда ты говоришь.
– Скажи, как правильно есть