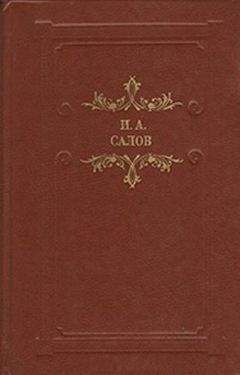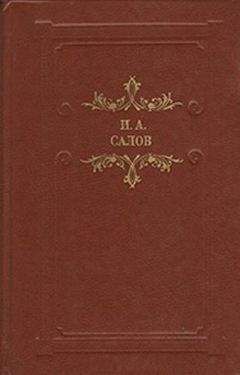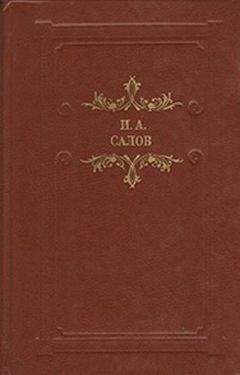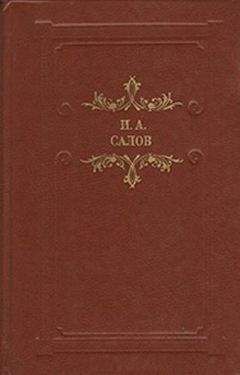На северной стороне острова, параллельно берегу, возвышается так называемая «Сухая грива» — песчаный вал, образовавшийся от прибоев воды. То возвышаясь, то понижаясь, грива эта тянется на далекое пространство и, покрытая деревцами осокори, дикорастущими вишнями, кустами черемухи, калины, шиповника, клена, представляет собою самый роскошный притон для соловьев и других пернатых певунов. Вечерними и утренними зорями перелески эти оглашаются тысячами голосов, покрываемых могучими и звучными трелями соловья. Можно подумать, что птицы всего мира собрались сюда и, собравшись, порешили воспеть красоту весны. Вы стоите на этой «гриве», на одном из самых возвышенных ее курганов, внимаете концерту пернатых, а между тем перед вами, кругом вас и повсюду раскидываются картины одна другой грандиознее, одна другой живописнее. Прямо — целое море воды, со стоном плещущей о нагорный берег. Это море освещено закатом солнца, и в огне его чернеют чуть заметными линиями лодочки, шлюпки, душегубки; белеют паруса; снуют пароходы и, оглашая воздух стоном колес, кажутся гигантами среди лодок и косулей[5]. Звучные песни, иногда даже целые хоры долетают до вас с этого огненного моря, и вы слушаете не наслушаетесь их. Но вот солнце утонуло, огонь потух, море подернулось легкой рябью; вы смотрите направо — и перед вами амфитеатром возвышаются гряды своеобразных гор, одна другой живописнее. Горы эти, пестреющие обвалами, садами, зеленью, перелесками, непрерывной цепью тянутся на юго-восток и кончаются так называемой Увекской горой, чуть синеющей на прозрачном горизонте. Гора эта, спускающаяся острым мысом, далеко врезавшимся в зеркало воды, невольно восхищает вас своею причудливостью и вместе с тем легкостью своего контура. Что-то весьма похожее на эту гору видел я в Ницце, на берегу Средиземного моря, в стороне к каналу. Так же, как и здесь, горы расположены там амфитеатром и кончаются горой, похожею на Увекскую; только нет здесь того маяка, который возвышается там, на той горе, и горит яркой звездой во мраке ночи.
С наступлением ночи картина изменяется. В одном из углублений горы вы видите тысячи огней — это Саратов. Перед ним возвышаются целые леса мачт, и на мачтах этих дрожат сигнальные огоньки. Черные трубы пароходов грохочут, выбрасывая фонтаны искр. Зеленый остров словно окутан мраком, но он еще не заснул, ибо разложенные костры пылают здесь и там, и от костров этих долетают до вас и шумный говор и веселые песни приехавших на остров саратовцев. Толпы гуляющих рассыпаются по острову, и далеко за полночь слышатся еще и говор, и песни, и треск костров, и шепот влюбленных, и звук поцелуя…
Мы подчалили к острову часов в семь вечера. Передав на сохранение рыбаку свои вещи, мы с Флегонтом Гаврилычем пошли в глубь острова. Миновав землянку рыбака, перерезав наискось обширную поляну, покрытую молодою, сочною зеленью, в достигнув наконец «Сухой гривы», мы пошли по ее опушке, поминутно останавливаясь и прислушиваясь к пению соловьев. Так как мы с Флегонтом Гаврилычем были только вдвоем и так как все наши сетки, свистки и дудочки находились у Ванятки и Василия, оставшихся при лодке, то я положительно не мог понять, для чего именно выслушиваем мы всех этих соловьев, не имея возможности ловить их. Флегонт Гаврилыч шел «передом», а я следовал за ним. Забыв на этот раз про свои височки и не обращая даже ни малейшего внимания на то, что одна панталона была у него за голенищем сапога, а другая наружи, он весь как бы обратился в слух и сосредоточенность. Он едва переводил дыхание, словно замирал, сгибался, ступал неслышно, останавливался, что-то высматривал в кустах; когда приходилось кашлять, то поспешно накрывал рот полою пальто и сердито махал мне рукою, когда мне случалось чем-либо нарушать тишину. Мне было даже страшно как-то обратиться к нему с вопросом: что мы делаем? Так прошли мы версты две. Наконец Флегонт Гаврилыч остановился, снял с себя фуражку, отер пот со лба, поправил височки и, вынув из кармана окурок «цигарки», проговорил с улыбкой:
— Слава богу-с!
— Что? — спросил я.
— Ничего, слава богу… есть-таки!
И, чиркнув по штанам спичкой, закурил «цигарку».
— Послушайте, — проговорил я, — объясните мне, пожалуйста, для чего мы пришли сюда?
— Как для чего-с?
— Да так, я не понимаю. Как же будем мы ловить соловьев, когда сетки наши остались на берегу?
— Мы будем ловить их утром-с.
— А теперь что мы делали?
— Теперь мы выслушивали-с и выбирали-с, которые получше поют. А завтра придем и возьмем их-с. Нельзя же ловить, не послушавши соловья; этак такого хлама наловишь, что стыдно людям показаться. Однако давайте присядем, отдохнем…
Мы присели.
— Слышите вон того соловья, который сейчас в той черемухе поет? — проговорил он, указывая на большой куст черемухи, возвышавшийся среди кустов калины.
— Почему же вы знаете, что он именно в черемухе?.. Тут много и других кустов.
— Я слышу-с, я знаю-с… Ну-с, так вот этого соловья и ловить-то не стоит-с, потому трещит слишком и вдобавок старых песен. Любой дьячок приятнее его пропоет.
— Это что значит «старых песен»?
— Очень просто-с! — проговорил Флегонт Гаврилыч, снимая фуражку и бросая ее на землю. — Есть соловьи старых песен, которые по-старому поют, и есть новых песен, которые поют по-новому…
— Неужели и соловьи тоже совершенствуются?..
— А как же-с! — поспешно перебил меня Флегонт Гаврилыч. — Соловьи новых песен и поют лучше, и ценятся дороже. Мало ли какие есть соловьи! Есть «ночники», которые поют по ночам, есть «утренники», которые поют по утренним зорям. Ночники тоже ценятся дороже утренников. Как можно-с! Есть соловьи пролетные, которые только пролетом попадают сюда: нынче осыплет, а завтра пропадет, а есть «местовалые», которые по нескольку лет кряду прилетают на одно место и детей выводят. Вот, к примеру, возле той землянки, к которой мы причалили, есть соловей в орешнике, уж он лет семь подряд сюда прилетает и сейчас опять здесь… За это самое мы его и не тревожим даже. Пущай себе поет!
— Почему же вы знаете, что это тот же самый?
— По пению-с.
— Мне кажется, они все на один лад поют.
Флегонт Гаврилыч даже расхохотался над моим невежеством.
— Как это возможно, помилуйте-с, господь с вами! У всякого соловья есть в пении какое-нибудь особенное колено, своя ухватка. Иной соловей весь «в дудках»-с, а иной «на свистах стоит»! И дудки и свисты опять-таки разные. У одного, к примеру, есть «кукушкин перелет», — это самое лучшее колено считается, у другого «юлиная стукотня», этак: тью-тью-тью, как птичка юла свистит; иной «пленькает», иной «дробит», а другой, наоборот, «раскатом» берет. Как пустит этак: трррррр… да вдруг: тью-тью и в «лешеву дудку» потом. Вот у соловьев-то новых песен все эти колена есть, и выходят они у них чисто, аккуратно, отчетливо-с… — И, вздохнув, он прибавил: — Только очень мало их было.
— Кого это?
— Да самых этих соловьев новых песен. За всю весну только троих господь и привел поймать!
— Может быть, еще поймаете.
— Нет уж, поздно-с. Теперь пошел соловей старых песен, значит, пролет кончился, шабаш!..
— Как это вы все замечаете!
Флегонт Гаврилыч даже улыбнулся от удовольствия.
— Пора научиться! — проговорил он. — Тоже годков пятьдесят — побольше занимаемся этим делом.
— Ах, в прошлом году пролет был хорош! — продолжал он с каким-то упоением. — Ах, как был хорош! Особливо один соловей уж больно хороший попался. Так выделывал «кукушкин перелет», что заслушаться надо… Соловей был во всей форме: плечистый, нос толстый, глаз навыкате и большущий, на высоких ногах. Прозимовал у меня, а весной один купец отбил. «Ну, говорит, снимай с меня все, только крест оставь, соловья отдай». Не поверите, даже слеза прошибла, когда самый этот купец приехал за ним! Словно осиротел я, словно детища родного лишился. Кабы не нужда, кажется, ни за что бы не расстался. А тут пасха подошла, деньги нужны были, у детишек обувь поистрепалась, жене надо было обновочку сшить… так и продал!
— И дорого взяли?
— Что там! Полусотку всего!
— Неужели пятьдесят рублей? — почти вскрикнул я.
— Гм! Так разве за такого соловья столько бы следовало?! Будь это в Москве аль в Питере… Ну-ка, подите-ка, попытайте-ка теперь у купца перекупить. Разве пьяным напоите, да и то меньше пятисот не отдаст. Ох и помучил же меня только этот самый соловей! Целых пять ночей подряд сидел под ним. И западками и сетью ловил. А держался он, надо вам доложить, на самом краю крутого-прекрутого оврага… Осыплешь, бывало, куст сетью, начнешь загонять — вершинит тебе, да и шабаш.
— Это что значит — «вершинит»?
— Это называется, когда соловей не по земле бежит, а по вершинкам перелетывает; сеть-то ведь внизу расставляется, по этому самому вершинника и трудно изловить. Уж чего я ни делал: и самкой-то свистал, и палочками-то старался его на землю согнать, и приваду-то сыпал — нет, не опускается, да и на-поди. Заберется на самую макушку да там, подлец, и заливается. Лихорадка даже сделалась. Бывало, он там поет, а я внизу валяюсь, зуб на зуб не попаду, даже подрался из-за него с одним портным, который тоже было под него подбираться вздумал; да спасибо ястреб помог… Хоть и расшибся я, а все-таки изловил…