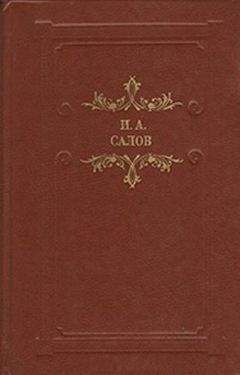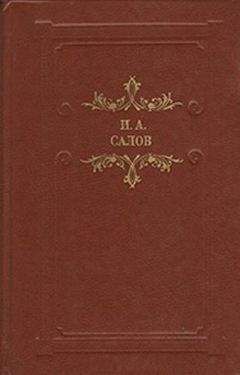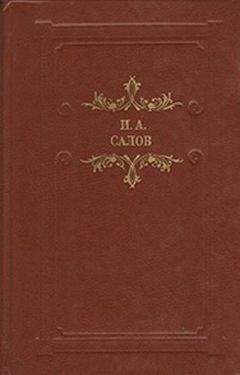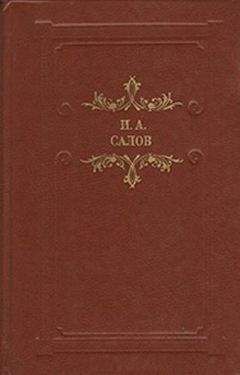— Гм! Так разве за такого соловья столько бы следовало?! Будь это в Москве аль в Питере… Ну-ка, подите-ка, попытайте-ка теперь у купца перекупить. Разве пьяным напоите, да и то меньше пятисот не отдаст. Ох и помучил же меня только этот самый соловей! Целых пять ночей подряд сидел под ним. И западками и сетью ловил. А держался он, надо вам доложить, на самом краю крутого-прекрутого оврага… Осыплешь, бывало, куст сетью, начнешь загонять — вершинит тебе, да и шабаш.
— Это что значит — «вершинит»?
— Это называется, когда соловей не по земле бежит, а по вершинкам перелетывает; сеть-то ведь внизу расставляется, по этому самому вершинника и трудно изловить. Уж чего я ни делал: и самкой-то свистал, и палочками-то старался его на землю согнать, и приваду-то сыпал — нет, не опускается, да и на-поди. Заберется на самую макушку да там, подлец, и заливается. Лихорадка даже сделалась. Бывало, он там поет, а я внизу валяюсь, зуб на зуб не попаду, даже подрался из-за него с одним портным, который тоже было под него подбираться вздумал; да спасибо ястреб помог… Хоть и расшибся я, а все-таки изловил…
— Как же вы расшиблись-то?
— А вот как-с! Кобёл[6] черемухи рос на самой-то круче, кобёл отличный, раскидистый, и местечко сплошное такое, «убивистое» было, а рядом с черемухой осинка, да такая тонкая, высокая и прямая, как конопля… И заметил я что с самой этой осинки соловей слетает на верхушку черемухи и, не падая на землю, перелетает на другой берег кручи. Вот я взял и осыпал черемуху-то сеткой, залег у сетки, а Ванятку с Василием загонять послал. Пригнали живо, вижу, сел на самую макушку осинки и затопился… Я лежу, а самого лихорадка так и треплет, зубами щелкаю, весь ходенем хожу, а он-то, подлец, сидит да разливается! Что тут делать? Палочкой в него бросить — боюсь, спугнешь… уж сколько раз так-то спугивал. Лежу да терзаюсь, плачу даже… Вдруг откуда ни возьмись ястреб! Соловей встряхнул крылышками, да с осинки-то шмыг на кобёл, а с кобла на землю, прыг, прыг, да в сетке и запутался!.. Я так со всех ног и бросился, схватил его, да как вдруг с кручины-то сорвался, да вниз и загремел… Всю рожу ободрал… Лечу это, а сам только руку кверху держу, чтобы как ни на есть соловья-то не убить, — о себе-то не думаю! И точно. Соловья сберег, а сам расшибся, как нельзя лучше! Целых три недели вздохнуть не мог, в постели лежал, повернуться нельзя было. Спасибо уж пиявками оттянули!
— Помню, помню! Как не помнить! — раздался вдруг чей-то голос позади нас. — Все за меня бог наказал!..
Мы обернулись и увидали молодого человека с испитым зеленоватым лицом, в коротеньком пиджаке и палевых панталонах, засученных за голенища сапог.
— И поделом! — продолжал он. — Не дерись вперед! Шуточное ли дело, как меня избил тогда!
— А! Владимир, здравствуй, — вскрикнул Флегонт Гаврилыч. — Что, аль тоже за соловьями?
— Нет, перепелятничать вздумал!
— Будет тебе врать-то!
— Чего мне врать!
— Уж беспременно выслушивать ходил.
— Ей-богу, нет… У меня и снасти-то перепелиные. На, смотри… — и он вытащил из мешочка сети и перепелиную дудку. — Да что! Перепелов-то нет. Мамакнул один, и шабаш. Подманивал-подманивал — так и не отозвался, словно в землю ушел. Что-то и дудка-то хрипит.
— Ну-ка, покажи!
Молодой человек подал дудку.
— И то хрипит! — заметил Флегонт Гаврилыч, ударив раз десять дудкой. — Засорилась — вот и все. У тебя иголки нет?
— Нет, кажись, — проговорил молодой человек, осмотрев лацкан пиджака.
— А еще портной! Иголки при себе не имеешь!
— Постой, может, в игольнике нет ли…
И молодой человек принялся шарить в карманах, причем выронил какую-то косточку, при виде которой Флегонт Гаврилыч вскрикнул:
— Стой! А это что?
— Что такое?
— Нешто с этим за перепелами ходят?
Портной расхохотался.
— Что же ты врешь-то? Чего глаза-то отводишь! — кричал Флегонт Гаврилыч, держа в руках косточку. — И где за перепелами с соловьиными дудками ходят! Эх ты, сволочь!
— Да это я так только…
— Заговаривай, заговаривай зубы-то!
— Ей-богу же!
— Будет, будет грешить-то!.. Ну, чего лжешь-то!
— Да право же, лопни мои глаза…
— Зачем же дудочка соловьиная?
— Да так, в кармане завалялась. Чудак-голова! Да она и не свистит даже.
Флегонт Гаврилыч приложил дудочку к губам и, убедившись, что она не издавала никаких звуков, успокоился совершенно.
— И то правда! — проговорил он не без удовольствия. — Не свистит…
— То-то и дело. Говорю, за перепелами. Я бы нешто не сказал… Чего скрываться? Я уж учен тобой…
— Ну-ну. Кто старое помянет, тому глаз вон!
— Да я так, к слову. Только счастье твое, что я в те поры сам-друг был, а то бы я тебя изуродовал… — И, подав Флегонту Гаврилычу иголку, он добавил: — На-ка! Нашел…
— Далеко ходил? — спросил Флегонт Гаврилыч, прочищая перепелиную дудку.
— Да так, к ольхам прошел. Устал, смерть. Хочу домой в Саратов ехать.
— Соловушки-то есть?
— Есть, да плохи: трещат, подлецы!..
Флегонт Гаврилыч ударил в дудку и, передавая ее молодому человеку, проговорил:
— На, бери… теперь не хрипит.
Молодой человек поблагодарил Флегонта Гаврилыча, а немного погодя встал, распростился и, объявив, что сейчас едет домой в Саратов, скрылся за кустами.
— Это кто такой? — спросил я.
— А тот самый портняжка, которого я в прошлом году побил. Так, сволочь, шушера. Однако сидеть-то нечего, довольно отдохнули… пойдемте-ка дальше. Портняжка и говорит, положим, что ни одного путного соловья не слыхал, да ведь ему верить-то тоже с опаской надо. Как раз обманет, подлец.
— А это разве случается у вас?
— Обманы-то?
— Да.
— Еще бы! Мы друг другу ни за что правды не скажем.
Мы встали.
— Папиросочки не одолжите-с?
— С удовольствием.
Я подал Флегонту Гаврилычу портсигар, из которого он и вынул штук пять папирос и, положив их в свой собственный, который, по словам его, он забыл дома, предложил идти дальше.
Не было, кажется, ни одного куста, ни одного дерева, ни одного кобла, из которого не вылетали бы соловьиные трели. Словно весь лес обратился в звуки и звучал каждой веткой, каждым листком. Мне никогда не удавалось слышать такого изобилия соловьев. Я слушал и восхищался, тогда как Флегонт Гаврилыч, наоборот, шел и ругался: «Ишь трещит, подлец! Хоть бы один путный попался. Ну, чего трещишь-то! Чего трещишь!..»
Мы вышли на полянку, окруженную лесом, и вдруг увидали прогуливавшуюся парочку; молодого человека в шелковом летнем костюме и в соломенной шляпе и молодую же дамочку в малороссийском наряде, со множеством бус на шее и с изящно повязанным платочком на голове. Они шли, чуть не обнявшись. Молодой человек что-то нашептывал своей даме, а дама слушала его, опустя голову. Мы шли сзади и потому долго оставались незамеченными.
— Ишь как рассыпается, подлец! — шепнул Флегонт Гаврилыч, подмигнув глазом. — Поди, тоже про любовь объясняет…
Мне сделалось неловко, и, чтобы дать знать им о присутствии посторонних, я громко кашлянул. Дама вздрогнула, отскочила в сторону; молодой человек оглянулся и, увидав нас, быстро выхватил из-под мышки книгу и громко прочел:
Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья…
— Соловьятники тоже! — сострил Флегонт Гаврилыч, толкнув меня локтем.
Мы обогнали гулявших и вскоре скрылись от них за кустами черемухи. Но я шел и мысленно доканчивал начатое молодым человеком стихотворение:
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы —
И заря, заря!..[7]
Вдруг Флегонт Гаврилыч подпрыгнул, вздрогнул, остановился, махнул мне рукой и, упав на землю, словно замер. Глядя на него, прилег и я. Перед нами возвышалась группа ольховых деревьев с серыми, грязными стволами, с кочкарником и высокой прошлогодней осокой, а из ольх разлетались во все стороны роскошные, могучие трели соловья. Здесь пел только один соловей; здесь, кроме него, не было ни единой птицы; но, прислушиваясь к соловью этому, я понял, чего именно добивается Флегонт Гаврилыч. Я не мог отличить ни «юлиной стукотни» ни «кукушкина перелета», но понимал, что соловей этот не похож на тех, которых слышал я прежде. Старик даже шапку снял и так без шапки пролежал все время.
— Слышали-с? — спросил он наконец, вставая и подойдя ко мне.
— Слышал.
— Вот этот — настоящий-с!
Совершенно уже стемнело, когда возвратились мы к землянке рыбака. Первое, что бросилось мне в глаза, — это небольшой стол, вокруг которого сидела компания, состоявшая из трех лиц, а именно: лысого господина, довольно тучного, одетого в парусинное пальто, и знакомых нам молодого человека в соломенной шляпе и молодой женщины в малороссийском костюме. На столике, освещенном грязной керосиновой лампой, стоял самовар, и вся компания пила чай.