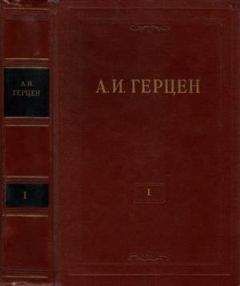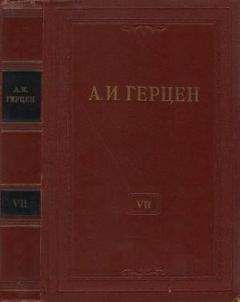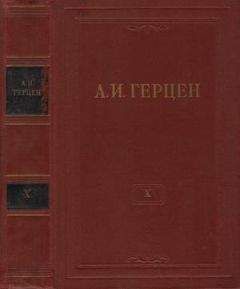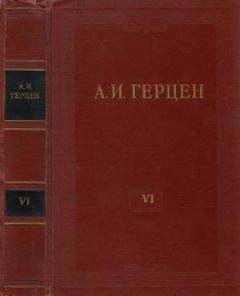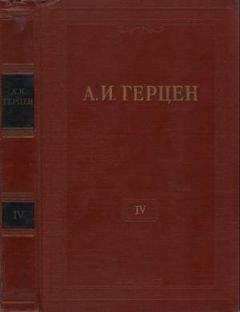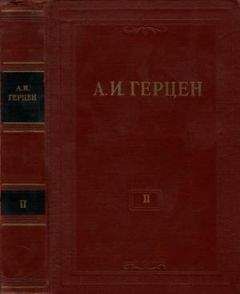E come i gru van cantando lor lai,
Facendo in aer di se lunga riga;
Cosi vid’io venir traendo guai
Ombre portate dalla detta briga…
Дант. Dell’ «Inferno», C. V[130].
Месяцев за пять или за шесть перед тем, как привезли Анатолия к Ивану Сергеевичу, он встал по своему обыкновению в 7 часов утра, облекся в халат вердепомового цвета, сшитый из платья покойной его матушки, старинной шелковой материи, которая не имеет свойства изнашиваться, и закурил с особенным удовольствием с вечера приготовленную трубку. Плутус, зевая и потягиваясь, ласкался к нему; Устинья принесла на маленьком подносе кофейник и чашку. День был ясный. Иван Сергеевич чувствовал себя довольным и счастливым; он хотел попользоваться, может, последним хорошим днем в году и задумал идти в Дворцовый сад, жалея только, что для этого ему надлежало отказаться от обоих товарищей своих прогулок: от Плутуса и от палки из сахарного тростника. Так-то удовольствия человеческие никогда не обходятся без лишений. Вдруг кто-то застучался в дверь. Устинья пошла посмотреть и воротилась с письмом в руке. «Лакей в богатой ливрее принес его и ждет ответа». – «Пусть подождет», – сказал Иван Сергеевич с своим удушающим спокойствием и начал наливать кофе в чашку. Устроив свой завтрак, систематически размочив для Плутуса кусок белого хлеба в сливках, он прочитал записку, вышел в переднюю, сказал лакею: «Доложи князю, что буду в назначенное время» – и воротился допивать кофе, бормоча: «Странно, на что я этому повесе? Устинья Артамоновна, вычисти-ка хорошенько кафтан да приготовь глазетовый камзол, тот, что надевал в Успенье».
* * *
В небольшом кабинете, перед большим письменным столом, на вольтеровских креслах сидел молодой человек лет 28. Все формы его выражали атлетическую силу тела, так, как все черты лица – порывистую душу. Он был в халате, обнаженная грудь подымалась сильно, темные волосы едва виднелись из-под бархатной шапочки. Юное лицо летами было старо жизнию: страсти и перевороты оставили на нем резкие следы. Протянув ноги на мягкую подушку, он задумчиво чертил пером бессвязные фигуры и несуществующие буквы. Стол был завален бумагами и книгами; смотря на них, трудно было догадаться, что за человек князь: проекты государственных перемен, фасады церквей, сельских домов, конюшен, отчеты из деревень, прейскуранты из магазинов, выписки из романов и выписки из Локка, из Монтескье, множество нераспечатанных писем и несколько начатых ответов. Подле лежал развернутый том Шекспира; казалось, он читал его недавно. Весь кабинет был продолжением этого стола или, лучше, стол был сокращением этого кабинета. На полу стояли превосходные картины, иные в богатых рамах, иные без рам, многие обернуты к стене; несколько ваз красовалось без симметрии – одна на окне, другая на мраморной тумбе, третья на камине; большие бронзовые часы Нортона спокойно отдыхали незаведенные, и груда книг, большею частью английских, смиренно лежала на ковре, которым был обит весь пол. Прислонившись к стене, стоял заржавевший кухенрейтер; черкесский кинжал висел возле каких-то остатков астролябии; наконец, бюст Сократа со вздернутым носом и бюст кардинала Ришелье с повислыми щеками смотрели друг на друга, отделенные темным мраморным Приапом с козлиной ногой, с козлиной бородой и с сладострастным выражением. Вскоре князь бросил перо, облокотился на обе руки и неподвижно вперил свой взор на висевший перед его глазами вид Венеции. Смотрел ли он на него или нет, не знаю, но скорее нет, ибо видно было, что он чем-то очень занят. Цвет лица его менялся, и он часто проводил рукою по лбу, как бы желая отогнать думу или стереть воспоминание. Тихо отворилась дверь, и взошедший камердинер доложил о приходе Ивана Сергеевича «Проси», – сказал князь, не переменяя положения, и через минуту взошел Иван Сергеевич с своим спокойным видом, на который князь бросил взор зависти и упрека.
– Чему обязан я, что ваше сиятельство…
– Бога ради, к стороне эти церемонии. Мне есть до вас просьба: вы можете меня облагодетельствовать, мне нужен благородный человек, а я знаю вас, несмотря на то, что мы редко видимся. Вы любили моего отца, он много сделал для вашего семейства, теперь вы можете воздать сторицею… Не отвечайте ничего, невозможного я не требую, я не сумасшедший. Прежде всего вы должны выслушать полную исповедь; я буду откровенен, и ежели тогда вы откажетесь помочь мне, то вы уже решительно не человек.
Удивленный Иван Сергеевич приготовлялся слушать, а князь указал ему стул с другой стороны стола, опустил глаза и долго искал, с чего начать. Казалось, он обдумал, как и что ему сказать, и именно поэтому растерялся в ту минуту, когда надлежало говорить.
– Вы знаете, – начал он, – какая блестящая карьера ждала меня по возвращении из Оксфорда. Императрица любила моего отца, она знала мои способности, она приняла меня милостиво. Я, юноша свежий, не зараженный старыми предрассудками, не скованный нелепыми формами, я понимал мысль великой Екатерины; я понимал, что ей надобно человека, через которого разливалась бы святая воля ее, и хотел сделаться им. Потемкин – это был мой идеал; поэт в гордости, поэт в роскоши, исполненный колоссальных идей и женских капризов, смесь Азии и Европы, как сама Русь; сатрап восточный и непокорный вассал феодальный, – его жизнь мне представлялась какой-то поэмой, мировой, высокой… Горе тому, кто мечтал о власти, – у него в душе пропасть, которую ничто не может наполнить. Судьба баловала меня, я видел начало исполнения моей пламенной мечты, и вдруг эта ссора… Я должен был заступиться за честь моего отца; история довольно известная. Подлый, обыкновенный человек из толпы заплатил клеветой моему отцу, извлекшему его из грязи. Я восстал. Презренный уступал мне в глаза, несколько раз предлагал мне мириться, но я осыпáл, душил его насмешками и колкостями. Он был силен. Императрица поверила, что я буйный, неугомонный, дерзкий мальчишка… Нет, она не поверила, – надобно раз видеть ее, чтобы знать эту душу небесной благости, это сочувствие всему сильному и благородному, – но все старики были против меня: они ждали от меня поклонения, ждали, чтоб я являлся в праздничные дни смотреть, как их лакеи метут пол в зале, и потом слушать пошлые афоризмы об обязанностях, о службе, о поведении. Я смеялся над ними, советовал лечить подагру и, боясь беспокоить, не ездил к ним ни в их залы, ни в их домовые церкви, ни в их кабинеты. Коротко, мне приказано ехать в Москву, будто для устройства деревень, со всеми знаками гнева и немилости. Я был обижен, оскорблен, половина мечтаний лопнула, сердце обливалось кровью. Злодей этот, дурак, приезжал прощаться со мною, уверял меня с улыбкой, что ему очень жаль, что я еду, хвалил, что я принялся за хозяйство, уверял, что мне в Москве будет весело жить, что он бывал у моего отца на прекрасной даче, что в Москве климат лучше, что я поправлю здоровье, особенно нервную раздражительность, которую, вероятно, я привез из сырой Англии… Доселе удивляюсь, как я не выбросил его в окно, не растоптал ногами. Делать было нечего; скрипя зубами, отправился я в Москву. Но в Петербурге осталось все мое существование. Слыхали ли вы о польской генеральше, которой муж был убит после Тарговицкой конфедерации и которого семейство призрела императрица? Никогда мысль любви не проникала в мою душу, оледенелую от самолюбия. Но дочь этой генеральши, – я вам ничего не могу сказать, вы не поймете меня, – это ангел, это существо выше земных идеалов поэта, это существо, которое одно могло бы примирить Тимона с людьми, святое, высокое…
Он замолчал; видно было, как трудно ему говорить об этом.
– Я не говорил ей о любви моей и не знал, любил ли ее, не знаю, смел ли любить… Я приехал в Москву. Как бешевый волк, ходил я по этим пустым комнатам, перебирая мысли мщения и отворачиваясь от своего бессилия. Надобно было чем-нибудь заглушить обманутое самолюбие, наполнить кипящую страсть деятельности, и мне ничего не оставалось, кроме разврата. Меня окружила толпа друзей, и я проводил дни и ночи за стаканом шампанского, в объятиях развратных женщин, за зеленым сукном. Я тушил в своей душе все хорошее, все высокое и радовался успеху, радовался, что вся Москва говорила о моих затеях, но душа не могла померкнуть так скоро. Голос сильный кричал мне и при понтировке и в чаду вакханалий: «Опомнись!», и тогда я обращал кругом себя грустный взор, потухавший от разврата, искал сочувствия и встречался с бесчувственным взором толпы. Я готов был броситься на грудь первому человеку, перелить в него все мучившее меня; но мне представлялась грудь нимфы, еще не остывшая от поцелуев другого, и я отворачивался с ужасом. Иногда, как путеводная звезда, как блестящий Геспер, который так вольно купается, играет в океане восточного света, являлась мысль любви, но бурные тучи страстей закрывали ее. Если б я знал, что я люблю, что я любим, если б… но я не знал, а знал, что люди обидели меня, лишили поприща, и я хотел мстить им, губя себя в чаду нечистых страстей… Так прошло около двух лет. Зачем природа дала мне столько сил, что я перенес эти два года?! Если б, изнуренный, больной, я погас, гораздо б лучше, – тогда б я погиб один!.. Я никуда не ездил, пренебрегая пустым кругом московской знати, которая тоже воображает, что она что-нибудь значит, в то время как вся деятельная сила сосредоточена там, у трона, там, где мне нельзя было быть, откуда меня вытолкнули. Не знаю как, один из приятелей затащил меня на вечер к своей бабушке, чтоб потешить глупостью полупровинциального тона, царившего в этом доме. Меня приняли на коленях, – разумеется, не меня, Михаила Петровича, а мое состояние, мое родство, мою фамилию. Да будет проклят этот день! Там познакомился я с одной бедной девушкой, жившей в этом доме, и нашел эту душу, которую искал, которая поняла меня. Скупая старуха, ее тетка, мучила племянницу; она была угнетена, жила из милости, очень несчастно; мне было ее жаль от души. Она со всею доверенностью юности бросилась в мои объятия и нашла в них не спасение, а гибель… Тяжело признанье, скорей к концу. Она живет у меня в Поречье, и ее же родственник помог мне погубить несчастную. Вся жизнь этой девушки – любовь ко мне, а я… Но нет, ей-богу, я не виноват! – Мой пылкий характер, мое сломанное бытие… я увлекся и опомнился слишком поздно…