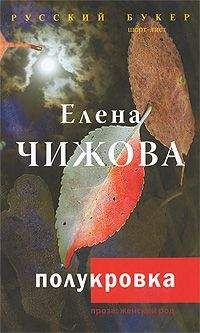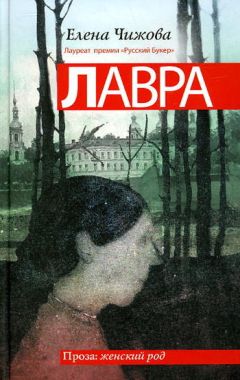Я же читала и читала, подгоняемая с двух сторон: пассивной деятельностью мужа, привозившего в дом все новые и новые книги, и Митиным страстным высокомерием, с которым он, усмехаясь, называл все новые и новые имена. Время от времени его искренняя любовь к знаниям перевешивала, и, выходя из презрительной роли, он принимался растолковывать мне - с подлинной педагогической страстью - внутреннюю структуру того или иного великого романа: той же "Волшебной горы". В такие времена я чувствовала радость и восхищение и, забывая о его презрительном высокомерии, задавала прямые вопросы, на которые получала исчерпывающие и изысканные ответы. Одним из первых стал вопрос о Нафте, с которым он, едва владея собой в грубом кухонном разговоре, сравнил отца Глеба. Я спросила, и, не чинясь, Митя удостоил меня блестящим рассуждением о иезуите и чернокнижнике, схоластике и недомерке, который разговаривал сиповатым голосом, звучавшим как надтреснутая тарелка. С одобрением, редким в его устах, Митя упомянул и об антиподе, замечавшем в господине Нафте явные signum mortificationis - симптомы омертвения. Этот другой - гуманист и рыцарь просвещения - неизменно вступался за идеи разума и их законное влияние на юные, колеблющиеся умы. Распутывая сюжетные линии, Митя рассказывал о том, как силою обстоятельств обыкновенный мальчик Ганс Касторп поднялся туда, наверх и оказался меж двух огней, пылавших в - различных по самой своей природе - учительских устах. Эти уста склонялись к юным ушам с двух противоположных, но взаимодополняющих сторон. Мальчик, умевший слушать простым и обыденным сердцем, оставил с носом их обоих: так и не взял ничью сторону, Митя закончил, усмехаясь. В общем, аналитическая школа, которую я прошла в мастерской, позволила мне позже, когда я перечитала все, что он считал обязательным, с хрустом разгрызать самые трудные художественные композиции, получая одобрение из уст своего личного Сеттембрини.
Два года, прошедшие с нашей первой личной встречи, - о ее обстоятельствах, а особенно о договоре, свидетелем которого был разве что тот воображаемый субъект, чьи пристальные глаза я в первый раз ощутила на себе в гадальной телефонной будке, ни один из нас не заговаривал, - эти два года оказались для меня, если так можно выразиться, не вполне полноценными, поскольку радость взаимного обладания, в нашем с Митей случае, не становилась обоюдной. Пеняя на свой ограниченный опыт, я винила во всем себя и, держа при себе собственные разочарования, совершенно серьезно размышляла о каком-то дефекте, похожем на порчу, с которым отныне, став не вполне полноценной женщиной, я должна была мириться. Эта неполноценность, о которой никто и никогда не должен был узнать, преломлялась в моем тогдашнем - растревоженном и неустойчивом - сознании каким-то особым образом: я мирилась с ней как с закономерной карой за грех. Больше того, в глубине души опасаясь более страшного наказания, я считала ее если не наименьшим из возможных зол, то, по крайней мере, вполне выносимым.
С другой стороны, именно эти годы, пришедшиеся на мою женскую неполноценность, оказались необычайно плодотворными: доверительность, крепнувшая от раза к разу, соединенная с нашими - почти университетскими штудиями, позволяла мне, возвращаясь к заветным литературным мыслям, уверять себя в том, что, как бы то ни было, но я - на верном пути. То, что раньше туманно называлось судьбой матери-одиночки, больше не страшило меня. Улетая мыслью за стремительными рассуждениями Мити, которые - как мне казалось довольно часто совпадали с бахромчатыми, я чувствовала себя увереннее, словно, произнесенные живыми губами, они действительно рождались на свет заново - так, как я однажды предугадала. Через некоторое время я стала приносить с собой свои книги и, передавая их Мите из рук в руки, чувствовала себя матерью, сажающей на другие колени свое дитя. Я любила смотреть, как Дмитрий, любовно перелистывая страницы, вдруг останавливался, захваченный чужой мыслью, и углублялся в чтение, забывая обо мне. Это длилось каких-нибудь пять-десять минут, но мне, смотрящей со стороны, казалось, что слово отчим, приходившее на ум раньше, несет в себе какой-то отчужденно-оскорбительный оттенок, совсем не заслуженный Митей. Для этих книг, лежащих на его руках, он становился отцом.
В общем, я могу сказать, что, если вынести за скобки гроздья гнева, Митя, и не любя меня, относился ко мне с нежностью. Наши встречи были полны радости: мы находили выход из любого тупика. Пожалуй, единственное, что вызывало его ничем не смягчаемое раздражение - это мои, впрочем, очень редкие, упоминания о голосах. В первый раз я рассказала довольно скупо: дескать, иногда, впадая в особое - я не посмела назвать его зыбким - состояние, я слышу обрывки фраз, и слова, из которых они состоят, кажутся мне подлинными. Приноравливаясь к его аналитической привычке, я сказала, что они являются мне в таком сочетании, которое я сама вряд ли сумела бы построить.
Через несколько недель, решившись продолжить, я призналась, что раньше, до наших встреч, эти голоса слышались как будто из одного источника, теперь же со мной бывает и так: на улице или в метро я слышу голос, окликающий меня по имени, совсем не похожий на те - другие. "Чем же?" - Митя спросил рассеянно. Собравшись, я попыталась объяснить: он одинокий, пустой и немузыкальный и произносит одно мое имя. Выслушав, Митя недовольно пожал плечами и перевел разговор. Раздражение, показавшееся на его лице, не рассеивалось долго.
Прошло еще немного времени, и однажды, совершенно неожиданно для меня, он стал расспрашивать о том, какую профессию я собираюсь выбрать после окончания института. Припомнив прошлые разговоры, он, посетовав на неустойчивость моей психики, посоветовал выбрать что-нибудь устойчивое: банковским служащим или счетоводом. Презрительная гримаска, сломавшая его губы, отозвалась во мне обидой. Твердо, словно окончательное решение принималось сейчас, я сказала, что, закончив институт, никогда не буду работать по специальности. Тут я прикусила язык: обиженный, он едва не разболтал мою тайну. Еще минута, и я, пускаясь во все тяжкие, призналась бы Мите во всем. Я рассказала бы о своем тайно окрепшем желании - писать, о задуманном трехмерном языке, способном, выстраивая другой мир, померяться силами с миром настоящим. "Почему-у?" - он протянул удивленно. "Ну, а ты, вот ты хотел бы стать счетоводом?" - я отвечала, соблюдая осторожность. Презрительная гримаска расцвела высокомерием: "Ну, во-первых, ты сама выбрала экономическое, а во-вторых, должна же ты кем-то работать..."
Под резонными и высказанными словами крылись другие. Я сидела, оглушенная. Выделенным словом, имевшим плоский и единственный смысл, он поворачивал дело так, словно не бывало ни бахромчатых книг, которые он нянчил, ни наших литературных разборов, когда, легко и весело улыбаясь, он хвалил меня. Все становилось пустым и невзаправдашним, похожим на глупую детскую игру, от которой взрослый, больше не снисходя, отходит в сторону, возвращаясь к своим делам. Забытая детская боль рухнувшего мира пронзила сердце, и, ударив кулаком по сапогу, пришедшемуся на башню моего песочного замка, я, не снисходя до многомерных подробностей, объявила, что буду писателем, потому что слышу те другие голоса.
То, что я увидела, поразило меня. Его жесткая губа дернулась, холодные глаза сошлись на мне, и голосом, истончившимся до ненависти, он заговорил тихо и страшно: "Неужели ты не понимаешь, что это - смешно?" Холодно, словно я посягнула на то, что он, бессонный страж, взялся охранять, Митя говорил, что от голосов надо лечиться, нет ничего на свете более нелепого, чем мои мысли, здесь требуется медикаментозное вмешательство, он давно замечал странное выражение лица, когда я выпучиваю глаза, становясь ужасно некрасивой, ну, он-то к этому привык и старается не замечать, но когда мне попадется кто-то другой, еще неизвестно, как на это посмотрит, в любом случае, надо проконсультироваться, может быть, базедова болезнь, в Средние века таких считали ведьмами, конечно - это крайность, но за всем этим есть резон, неизвестно, как скажется на здоровье будущего ребенка, рано или поздно придется рожать - как все нормальные женщины... Я слушала, уже не понимая слов. Слова становились густой, черной массой, похожей на смолу, - черной смолой он мазал мои ворота. Как будто со стороны, словно уже умерла, я видела свое растерянное, опозоренное лицо, и - другое, о котором давным-давно позабыла. Оно выходило из темноты, вставало рядом со мной - под фонарем. Я видела мальчика, украшенного красной повязкой, который протягивал руку из тьмы - за моим билетом. Низкий голос, тяжелый как камень, перебил протянутую кисть, и, отступая в темноту, мальчик тянул меня за собой - в свое оцепление. Не было у меня билета, чтобы идти туда, куда, осененные голосами, могли проходить писатели. Я была самозванкой, которую, поставив густое оцепление, должно было не пустить в святая святых. Те, кто приходил беззаконно, сюда не должны были пройти. Натянутая шейная жила дернула мою щеку. Я переняла этот тик у мужа, умеющего говорить "Изыди!".