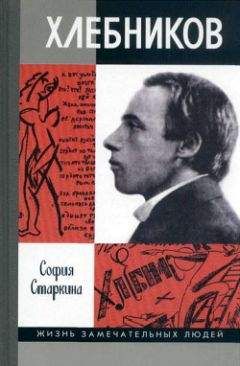Не знаю почему, но "насильник" и "манчестерский друг" как-то сразу связались с соседкой, что именно она пустила какую-то грязную сплетню. Для чего? Выяснять?! Это было ниже моего достоинства.
На вахте тоже почти отпихнули - Алина Спиридоновна хмыкнула, что уж скоро Филиппов пост, и демонстративно, как умеет только она, стала смотреть в окно. Когда выходил, бросила в спину:
- Есть еще, есть людишки - сущие оборотни!
Наверное, и здесь "поработала" соседка?! Впрочем, на улице было так хорошо, что думать о плохом совсем не хотелось. Кутаясь в крылатку, шел по снегу с таким удовольствием, словно моя жизнь еще только-только начиналась.
В Парке пионеров умышленно свернул с тропки и остановился под березой. Легкий чистый морозец, низкое белое солнце, искрящаяся пыльца - и всего так много-много, что даже голова закружилась от солнечно-снежного изобилия.
Как было бы замечательно упасть навзничь и смотреть, смотреть сквозь инистые ветви на белое солнце.
Подстилая крылатку, я тихо опустился и лег на спину. Никакого холода не чувствовал (мягкая белая колыбель) - вот так бы и умереть, тихо и спокойно.
Я подумал о смерти и не испугался ее. Я подумал о ней не как о высшем наказании за проступки своей неправильной жизни, а как о необъятном космосе, вмещающем вечную жизнь, в котором мое "я" пребывает в бесконечных формах, еще не узнанных мною. Смерть - это узнавание самого себя там, за пределами доступного, где я уже был, есть и буду всегда как высшая реальность.
Мне еще никогда не было так хорошо от понимания простых и очевидных истин. Невольно засмеялся над своими глупыми фантазиями: Жизнь - это смерть, а Смерть - это жизнь. Мне показалось, что я уже откуда-то оттуда смотрю на себя сквозь белые солнечные лучи, сквозь белые ветви деревьев, что я уже слился с землею и чувствую ее вибрацию как вибрацию своего единственного космического корабля.
- Эй, ты, а ну-ка вставай, чего разлегся? - услышал испуганный, полный наихудших подозрений голос. И сразу другой, раздраженно уговаривающий, что не стоит ввязываться: вдруг это окочурившийся бомж - хлопот не оберешься...
Я сел. У меня было такое чувство, будто я опять очутился в какой-то из своих новых фантазий.
- О, слава Богу, цел!
- Давай пойдем, зачем он тебе сдался?!
- Затем... интересуюсь, мать-то у него есть? - Первый голос тоже стал раздражаться. - Эй, ты, а ну-ка вставай, чего расселся?
Я встал и оперся о ствол березы, сверкающий слюдяной дождь осыпал меня с ног до головы. Два мужика в монтажных брезентухах и подшлемниках как-то неестественно встревожились, заоглядывались по сторонам, словно я вдруг выпал из поля зрения, исчез. Наконец интересующийся как будто бы увидел меня.
- Ты куда собрался?
- На почту, - сказал я, потому что его напоминание о матери отозвалось во мне сонмом чувств (я откуда-то уже знал, хотя не знал, конечно, что соседка обманула меня, не отправила деньги) и я решил, что прежде всего займусь денежным переводом.
- Ну иди, - неуверенно разрешил монтажник и пригрозил: - А то в милицию отведем, достукаешься!
Я пошел в глубь парка и вскоре вышел на следующую тропинку.
- Эй!.. Эй!.. - услышал удивленные оклики монтажников.
Барахтаясь по пояс в снегу, они спешили ко мне, но, когда я остановился, боязливо повернули назад. Не знаю, за кого меня приняли, ясно одно: их привело в замешательство мое хождение по снегу - я не оставлял следов. В самом деле, когда оглянулся, никаких следов не было, очевидно, я прошел по крепкому насту, а крылатка подмела следы. Как бы там ни было, но до того легко и светло стало на душе, что я спешил на почту, действительно как бы используя левитацию, то есть не касаясь земли.
На почте встретили радушно, пригласили к пустующему окошечку, а когда отсчитал двести "рваных", кто-то высказал догадку, что это деньги похоронные, вынутые из чулка по крайней необходимости. Тут уж сочувствующие объявились, мол, а куда денешься, ведь в магазинах ничего нет, а то, что есть, дают из-под прилавка. И вообще ходят слухи, что с Нового года будет реформа и старые деньги отменят, вместо Ленина нарисуют царя Бориса, а потом и лжедмитриевки пустят в ход.
В ЦУМе, как в пустом амбаре, гулким эхом множились редкие шаги. Я ходил от прилавка к прилавку, и всякий мой вопрос об одежде или обуви продавцы воспринимали как личное оскорбление.
На втором этаже даже продавцов не было. Уборщица, орудующая шваброй, завидев меня, крикнула:
- Кыш-кыш отсюда! - И уже под нос: - И шлындают целый день, и шлындают...
Слава Богу, за магазином обнаружил стихийную барахолку. В живой цепи торгующих присмотрел финские полусапожки с красными проталинками на носках. Надел. Ноги так сразу и уснули в них! Никогда в жизни не ходил в столь приятной меховой обуви - десять трешек отвалил. Учитывая мой люмпенский вид, продавец хотел было скостить цену - мы уже остановились на двадцати пяти. И тут откуда ни возьмись, в каких-то грязных сосульчатых малахаях, два субъекта появились. Я и лиц-то их толком не разглядел. Бесцеремонно встряли в разговор, мол, что и говорить: классные полусапожки - импорт! И как-то незаметно-незаметно ушли и унесли мои старые ботинки.
Продавец моментально сориентировался (у меня даже возникло подозрение, что эти два странных субъекта - его сообщники), сразу повысил голос и уже даже за тридцать рублей не хотел уступать.
- Не хочешь за тридцать - снимай, я их по шестьдесят буду продавать, сказал он и, присев, так рьяно стал хватать меня за ноги, что я вынужден был его упрашивать... чтобы не идти босиком по снегу.
В поисках продуктов оказался на привокзальном базарчике, на котором встретился со старшиной-сверхсрочником. Собственно, не встретился, а он подошел сзади, положил руку на плечо, как старому знакомому:
- Клорнет Оболенский?
Я принял игру:
- Ефрейтор Голицын?
Мы весело рассмеялись, каждый своей остроте. Потом он сказал, что наливать вина ему не надо, а вот водочки - не помешало бы.
Он уговорил взять у таксиста бутылку водки и пообещал дать взамен столько провизии, сколько унесу. Сделка была слишком заманчивой, чтобы отказываться. Впрочем, и водочка обошлась в копеечку - червонец отдал.
Едва зашли за станционные ларьки, старшина сорвал зубами пробку и прямо из горла опростал полбутылки. Я выпил полглотка, только чтобы поддержать его. И - зря, в животе запекло, закорежило, словно кипятка отхлебнул. Старшина обрадовался, что я непьющий, сказал - ему больше достанется. Заткнул бутылку носовым платком и спрятал в своей бездонной шинели. Потом предупредил, что веселость его временная, через минуту-другую (как пойдет) вполне может захмуреть, тогда надо резко крикнуть ему в лицо: хмуреешь! У него и кличка в части - Хмурый.
- Чуть появлюсь где, - поведал он, - уже слышу за спиной, издеваются: идет веселый Вова Колобков! И такая злость вдруг накатывала, аж трясло, а после якутских событий - злость как рукой сняло.
На каком-то запасном пути залезли в товарный вагон, переоборудованный под склад, - маленькие зарешеченные окна на потолке походили на окна курятника. Всюду на обширных полках стоймя стояли пузатые бумажные мешки с крупой и ящики с консервами. Поперек вагона, словно мосток с одного ряда полок на другой, лежала широкая дверь - своеобразные нары. Место под ними использовалось под дрова и тазы с углем. Сварная железная печка у входа заменяла кухонный стол, на ней стояла открытая банка тушенки.
Старшина рассказал страшные вещи. Оказывается, кроме всяких известных событий, были якутские, неизвестные, в которых по приказу свыше он самолично участвовал.
- Бывало, поймаем какого-нибудь подстрекателя и лупим, лупим бляхами аж кожа лопалась. А уж как они нас смертно лупили, и резали, и убивали из-за угла!
Старшина заматерился, но не зло, машинально, и показал изуродованную шрамами руку и очень широкий бурый шов на груди.
- У меня еще кое-что тут есть.
Он постучал указательным пальцем по виску. Я подумал, что таким странным способом он подчеркивает незаурядность своего ума. Тем более что старшина стал рассуждать о политике и даже пророчествовать.
- Запомни, студент (на привокзальном базарчике он наблюдал за мной и принял за студента культпросветучилища), что горбачевская перестройка навязана нам извне. Она только начало огромной международной аферы против россиян. Настоящая же афера еще впереди, она с ельцинскими реформами начнется. Попомнишь... уже и нужные люди подобраны, а как же...
Он сделался угрюмым, как-то враз даже лицом потемнел.
- Хмуреешь! - крикнул ему, как он просил.
Старшина отшатнулся и заулыбался, словно я сделал ему комплимент.
- Молодец! Так и дальше действуй, - поощрительно сказал он. - Вся беда наша в том, что мы слишком много маршировали и пели "Широка страна моя родная...". В Прибалтике пели, на Кавказе, в Казахстане, в других союзных республиках, а они, нацмены, запоминали - как так, что в его стране русские поют "Широка страна моя родная..."?! Оккупанты эти русские!.. А мы-то пели по своей наивности. Мы думали, что раз мы их считаем русскими и пишем им в паспорта свои фамилии и национальность, то и они считают себя русскими нет! Мы вырастили сами в себе пятую колонну, своих врагов, своих убийц вырастили! Потому что "русские" из нацменов больше всего и долбали своих, рьяно долбали, чтобы выслужиться! И выслуживались, вызывая у своего народа неприязнь и даже ненависть к нам, настоящим русским!