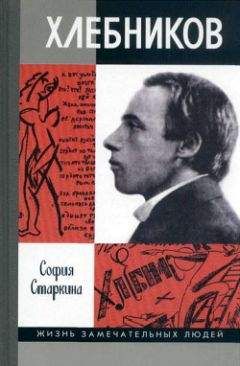Соседка опять засмеялась и нарочно для меня как литератора подивилась, мол, почему глупейшее название, а у рабочего класса пользуется повышенным одобрительным вниманием? С утра и до позднего вечера толпятся, гомонят довольные, что пьют они именно в "Свинячьей луже".
- Нас приучили к крайностям. Нельзя даже к добру гнать палкой. Это своего рода бунт против "палочного добра", так сказать, насильного счастья.
- Вишь, Митя, какой ты умный, а сам против чего бунтуешь? - весело уколола соседка, окинув красноречивым взглядом бросающийся в глаза беспорядок.
Бывали новости и не столь веселые: что в магазинах ничего нет, прилавки пусты, а чуть появится что-нибудь, так тут же и сметается подчистую.
- Откуда только деньги у людей, все дорожает, как на дрожжах. Уже поговаривают, что с Нового года будут отпущены цены: на молоко, хлеб и вообще на всё. Ровно на пятьсот дней отправят всю страну на больничный и под видом реформ устроят ей шоковую терапию, чтобы было все у нас как в Польше: товаров навалом, а денег - ни у кого...
Соседка побывала на рынке - там этих поляков и прибалтов "хоть пруд пруди", продают всякий дефицит: трикотаж, парфюмерию, обувь... и на каждой машине объявление - покупаю телевизоры, медь, бронзу в неограниченных количествах. И адрес указывается... уже распоряжаются, как у себя дома.
Она вздыхала, но тут же поднимала настроение тем, что такую большую страну, как наша, все же нельзя растащить за пятьсот дней.
Я привык к беседам с соседкой. Уже ее васильковое платье стало казаться мне не таким и простеньким. В общем, после разговоров с нею хотя и не легче делалось... но думалось уже не только о Розочке.
Когда я пошел на поправку, соседка принесла мне лишнее байковое одеяло, которым тут же занавесила окно.
- Пока по-настоящему дадут тепло, успеешь схватить воспаление легких, сказала она и неожиданно расплакалась.
Оказывается, уже дважды за квартал повышали предоплату за детсадик и ее ?Артура отчислили, потому что директриса их швейной мастерской отказалась перечислять дотационные деньги, а ее вовремя не предупредила.
- Она мстит мне, что при обсуждении устава - мы теперь будем акционерным обществом открытого типа - я настояла, чтобы учитывался стаж работы непосредственно в пошивочной, а она у нас всего третий год.
Соседка упала ко мне на кровать и разрыдалась. С первого дня, как только она пришла с кашей и чаем, я думал, как отблагодарить ее. В общем, мне представилась возможность помочь ей деньгами.
Вначале соседка отнекивалась, а потом взяла. Сказала, что ей за глаза хватит пятидесяти рублей. Я отсчитал триста, попросил отправить двести рублей моей маме на Алтай - пусть хоть сена купит для своих коз. Соседка пообещала отправить, даже адрес записала своей рукой, чтобы не напутать. И весь вечер была веселой и довольно-таки игривой, впрочем, каким бывал и я, когда внезапно удавалось разжиться деньгами.
- Ты, Митя, точно такой же простодыр, как и мой Гива. И деньги у тебя такие же замусоленные, словно из винного ларька.
Зачем она так сказала?! Я насторожился. Но она еще всякое говорила, смеялась и сравнивала меня со своим Гивой так, что даже было неприятно... Особенно остро резануло, когда сказала, что ее Гива - не настоящий муж и его никто и никогда не арестовывал. Просто он уехал к своей семье в Грузию, потому что она прогнала его.
И сама она по специальности не швея, а преподаватель английского языка, она даже побывала в Манчестере на стажировке, но потом из-за этого дурака Гивы пришлось переквалифицироваться.
Ее Манчестер прямо-таки добил меня, до того стало не по себе, что даже вздохнул с облегчением, когда она ушла. Она ушла, но еще долго оставался осадок, будто она покушалась на Розочку. В тот вечер из-за этого кашу не стал есть, попил немного чаю и лег спать. А на следующий день с утра нажарил себе гренок, чтобы, когда она принесет ужин, сослаться, что я уже поел.
Но вечером соседка не пришла. Мне сказали, что вместе с сыном она уехала в отпуск, в деревню к матери. И слава Богу, подумал я с облегчением и опять отдался мечтам о Розочке, словно ими мог если не вернуть ее, то хотя бы искупить свою вину, которую подспудно чувствовал перед нею.
ГЛАВА 20
- Эй, сюда! Скорее сюда! Тут человека какого-то затоптали!.. Какая жалость, такой молодой, такой перспективный... А какая посмертная маска?! Будто у Пушкина, или Наполеона, или у этого... из купринского "Гранатового браслета" - Г. С. Ж... ну да, господина Желткова... Эх, жить бы касатику, а вишь - не судьба...
- Ладно вам, расквохтались: судьба - не судьба... Да потеснитесь вы наконец, дайте-то горемыку вынуть из-под ног!
Это уже слесарь-сантехник откуда-то взялся, бесцеремонно перекинул меня через плечо...
Я приподнялся на кровати, резко тряхнул головой, чтобы сбить, замутнить видение, мне хотелось мечтать о чем-нибудь другом - куда там! Откуда ни возьмись, тройка "разведенцев" объявилась, двое с носилками, а Двуносый с ружьем, весь из себя деловой, отдает распоряжения, торопится, но наскакивает исключительно на молодых женщин - пардон, мадам!.. Пардон... При этом оглядывается и успевает подготовить своих сотоварищей, что все в ажуре, четвертым будет нести мои бренные останки их заготовитель, Тутатхамон.
Здесь же в толпе и мои литобъединенцы каким-то образом оказались. Особую активность проявлял Маяковский:
- Трагедия, трагедия, достойная английского классика!
Почему-то в разных местах возникал его наседающий бас. И вдруг все смолкло - все увидели изумительной красоты девушку в сиреневой кофточке и джинсах-"бананах". Внезапный душераздирающий вопль пронзил перепонки:
- Не виновата-я я-а, не виноватая-я-а!..
"Однако было... было уже в кино!.." - вскинулось все во мне, но еще прежде открыл глаза - тьма, ни огонька, ни пятнышка... Где я? Уж не рехнулся ли?! В испуге сел на кровати и похолодел от ужаса. Мне показалось, что я сижу на каких-то деревянных носилках. Невольно выпростал руку и тут только натолкнулся на стену, на скользкий холодок отставших обоев, которые вздохнули, словно ожили. На душе отлегло - это шелестящее дыхание стен ни с чем не спутаешь...
Мои доброхоты во главе с Двуносым несогласованно резко рванули носилки, особенно сантехник перестарался, благо я успел снизу ухватиться за брусья, а то бы точно выкинули на асфальт.
- Тише, уроним, Тутатхамонище! - недовольно прошипел Двуносый и ласково, словно я мог слышать его, проворковал: - А руки-то, Митя, надо убрать, нечего им болтаться, как в проруби.
Они подозвали старосту литкружка (я узнал его по характерному постукиванию палкой), и он, предварительно ощупав меня, уложил мои руки, как укладывают покойнику.
- В рабочих ботинках - нехорошо... Надо было бы в белых тапочках или на крайний случай в белых кедах, - рассудительно заметил он и сообщил, что днесь видел в новом ЦУМе весьма прочные кеды, изнутри прошитые капроновой ниткой, и всего по семь рублей за пару. - Да, по семь, - тяжело вздохнув, повторил он.
Доброхоты отогнали его, Двуносый для острастки даже похлопал по прикладу ружья. Староста огрызнулся, но от носилок отбежал.
- Мелет какую-то чушь и еще огрызается, как будто Митя мог знать заранее, что его затопчут! - возмутился Двуносый.
Я согласился с ним. Мне, как никому другому, было известно, почему староста так тщательно ощупывал меня, точнее, мои карманы, почему повторил о семи рублях и почему так тяжело вздохнул. Семь рублей - это сумма оброка за участие в коллективном сборнике, которую, кстати, он не платил. Что за человек?! Я, можно сказать, уже на небесах, а он?! Ходил у меня в графах, в Львах Николаевичах ходил, а на поверку каким мелочным оказался?! Мне захотелось плюнуть на него с высоты носилок, тем более что на этот раз их довольно слаженно подняли и утвердили на уровне плеч.
Вдруг осенило - староста прав, прав! Может, я в Москву приехал, чтобы обещанный сборник издать?! Стало быть, и деньги должен был захватить. Наверное, он подумал, что меня обобрали... Потому и вздохнул так тяжело. Небось вздохнешь - читатели-почитатели воспользовались, обобрали своего поэта как липку! Да это уже не читатели, а мародеры какие-то! Не все, конечно, один завелся, а подозрение - на всех.
Мне стало жаль, по-человечески жаль старосту. Он мог подумать что угодно и о ком угодно, ведь он ничего не знал и не знает о Розочке. Утешить бы беднягу, поддержать, сказать: не горюй, Лев Николаевич, и на нашей ясной поляне будет праздник! Но в своем трагическом положении я не мог даже пошевелиться. Впрочем, в следующую секунду я уже сам нуждался в утешении.
- Не виновата-я я-а, не виновата-я-а!
Я почувствовал леденящий, прорастающий сквозь кожу страх. Резко дернулся на кровати, причем довольно чувствительно ударился головой о спинку. И кстати, и поделом!.. Мной овладело чувство обреченности - там, в моих, пусть глупых, фантазиях, есть хоть какая-то жизнь, здесь же, в четырех стенах, нет ничего, кроме заброшенности, мрака и ненужности никому.