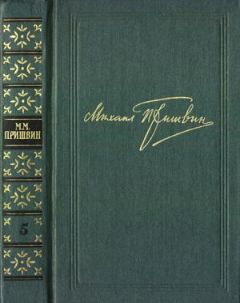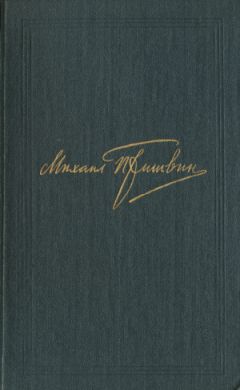Что же делать? Душа человека похожа на море: вечные бури на поверхности, и в глубине тишина. Как бы я рад был уйти от бурь в тишину, но там, в глубине, и темно, и воздуху нет. Нечего делать! Приходится бурю принять.
Так меняю я свой образец поведения летописца Нестора на героя, плывущего на льдине в водах Северного полюса. Каждое мгновенье эта льдина может столкнуться с другой и рассыпаться вдребезги: самому себя спасти невозможно, и герой мой совсем даже и мысль потерял о себе. Но это ученый герой, окруженный инструментами, ему нужно списывать показания термометров, барометров, секстантов, а бумажки с показаниями запечатывать в бутылки и пускать их в море с надеждой, что морское теченье принесет к людям. В этой деловой спешке у исследователя может быть одна только единственная мысль о себе: помирать собирайся – рожь сей.
Вот и я теперь хотел бы писать, как этот герой, только не о северной природе, а о душах людей, меня окружающих и никому не ведомых.
IV. Перепись населения
Сын покойного Гаврилы Алексеевича Ваня теперь уже лет пятнадцать работает у нас на торфу агрономом, а сын Мирона Ивановича Алеша тоже у нас бухгалтером. Ребята эти мне были как родные дети, и мои десять мудрецов – русских писателей – стали их учителями, точно так же, как и моими. Жили мы первые годы очень хорошо в небольшом итееровском домике под соснами – единственными деревьями, уцелевшими на всей площади нашей бывшей красавицы Кручи. У Алеши была небольшая квартира в две комнаты внизу против меня через коридор. У Вани тоже было две комнаты на втором этаже, как раз у меня над головой. Но пока не женились, оба они все свободное время проводили у меня, и мы вместе в складчину тут и праздники устраивали, и вместе читали моих мудрецов.
Покойный Гаврила Алексеевич просил меня, умирая, не забывать его Ваню и наставлять; но какое тут наставлять! Этот Ваня у нас в совхозе и первый деляга, и особенным даром обладал не задевать ничем злых или нетерпимых людей.
Тайное мое желанье было, напротив, вовлечь его как-нибудь в борьбу и зажечь, но бывают такие русские люди: есть и ум, и знание, и собой пригож, а вот ничем его из себя не выбьешь, и, когда станешь в упор против него, чтобы только высказался, он покраснеет и совсем замолчит.
И сколько ни читали мы с ним, сколько ни разбирались, все у него так выходило, что слова мудрецов не задевают глубину внутренней жизни, и она там в своей сокровенности идет по каким-то иным, словами не выразимым законам. Но все объяснилось в характере Вани, когда он женился на Анне Александровне Меркуловой, дочери бывшего самого крупного в Переславле лесопромышленника.
Красота бывает, конечно, как я понимаю, очень разная: одна красота вся в живость идет – в движенье, как у птички ласточки, другая вся собирается, как у лебедя, в важность: женщина Анна Александровна была дородная и важная. Ваню красавица взяла себе, конечно, потому, что угадала его, сразу поняла его верную душу и, полюбив, определила его себе навсегда. И тут Ваня определился весь: в послушании своем Анне Александровне он сразу нашел себе вечность, как и отец его Гаврила Алексеевич, конечно же, чувствовал вечность, больше полстолетия простояв в одной и той же кладбищенской церкви за ящиком.
Совсем другой был Алеша: церковная благопристойность и неподвижность, сиявшая вокруг Гаврилы Алексеевича, мне кажется, его чуть ли не с детства от себя отталкивала, и отсюда, вероятно, и шло его озорство. Он, конечно, мог бы унаследовать свое вольнодумство от толстовца, отца своего, но ведь вольнодумство Мирона Ивановича стоило послушания Гаврилы Алексеевича: извольте под властью Толстого провести десять лет, а потом под властью Достоевского, и так всегда под чьей-нибудь властью.
Но у Алеши все шло от себя.
Вспоминается мне то время, когда нас всех застала перепись в доме Гаврилы Алексеевича, в саду его. Хозяин только что нарезал меду, и мы уселись под яблонями за стол пить чай с медом. Не помню, по какому-то случаю Гаврила сказал:
– В наших переславских властях вечности нет.
Ах, вот и вспомнил: разговор о «вечности» начался от Мирона Ивановича – он спросил, где бы теперь ему для своего улья вощину купить. И тут оказалось, что в том доме, где продавали вощину, теперь сберкасса и что сберкасса эта за год уже шесть раз переезжала. Услыхав, что касса шесть раз переехала и опять выгнала общество пчеловодства, Гаврила Алексеевич тут-то и высказал свою твердую мысль, что у переславских властей вечности нет. Тогда-то озорной мальчишка Алешка и выпали:
– Ни в чем вечности нет!
– Как ни в чем, – вспылил Гаврила, – а бог?
И только-только Гаврила стал краснеть, чтобы разразиться гневом праведным и схватить озорника за ухо, вдруг к нам в сад и входят девушки-переписчицы, и все, кого они захватили тут в саду, немедленно должны были заполнить анкеты всесоюзной переписи населения.
Тогда-то вот Алеша, взяв у девушки свой лист, покосился злодейски на Гаврилу и в графе «исповедание» написал: неверующий.
«На-ка, вот, выкуси!» – такое было у мальчишки выражение, когда он передавал свой лист Гавриле. И тогда роли переменились: старик только хотел было схватить мальчишку за ухо, и вдруг тот как бы сам ухватил его.
Сердце мое стеснилось от жалости: лицо старика в серебряной бороде, нежное, с легким румянцем, как у ребенка, всегда ясное, покойное, вдруг стало белым как снег, исказилось страданьем.
– Алеша, – сказал он, вставая, голосом притворно ласковым, – возьми с собой лист, и зайдем на минутку в дом.
Вскоре, смотрим, оба спускаются назад с лесенки. Гаврила радостный, а у Алеши глаза опущены и по щекам размазаны слезы. Спокойно собрав все наши листы, Гаврила отдал их девушкам-переписчицам, и мы пили чай и об этом ничего между собой не говорили.
Только уже после смерти Гаврилы однажды у Алеши развязался язык, и мне одному с глазу на глаз он признался: Гаврила заставил его вычеркнуть из анкеты слово «неверующий». И как заставил! Когда они пришли в дом, старик посадил Алешу за стол, положил перед ним анкету, сам же опустился перед Алешей, озорным мальчиком, на колени и с рыданьями умолял его:
– Алешенька, не губи свою душу! Нельзя, милый мой, о себе написать, что неверующий! От этого потом уже не откажешься, и это уже навсегда, на вечность пойдет. На коленях тебя прошу, зачеркни!
Страшна вечность была Алеше, но страшнее вечности был ему этот седой старик перед ним на коленях.
И он зачеркнул.
Но думаю я теперь, тут-то и родился в нем, как потом оказалось, человек, враждующий с вечностью, человек, готовый всю далекую вечность отдать, чтобы только сейчас поднять упавшего перед ним старика…
Алеша женился на одной переславской девушке, блондинке с синими глазами – Милочке: птичка и птичка вольная. Посмотрел я на них, вспомнил прошлое и подумал, что, пожалуй, в этом браке тоже вечности нет.
V. Наш дом
Что это за человек теперь, спрашиваю, кто за два с половиной года войны не пережил в себе сто, а может быть, даже и тысячу обыкновенных наших прежних лет! Вот почему, наверно, теперь так и трудно рассказывать о всем, что было там назади перед войной.
Теперь в простоте своей я, как хозяин маленького, своими руками выстроенного дома, начинаю понимать людей на войне: они, отдавая жизнь свою, рубя врагов, лес рубят для нашего великого дома. Полагаю, что и у них там, на фронте, у каждого есть мечта остаться в живых и потом, когда война кончится, счастливо устроиться с семьей в своем знакомом, с детства любимом уголке необъятной нашей родины.
Как из всех этих желаний складывается общее дело, я понимаю по нашему поселку: каждый из нас строил дом для себя, а вышел поселок, и через несколько десятков лет обитатель моего домика будет считать его своим, и тогда-то окажется, что я рубил его не только для себя, но и для него.
Однако в то время перед войной я рубил вполне для себя, и еще, может быть, много лет пройдет, пока окажется в этом домике кто-то другой.
Напротив, на войне, на передовых позициях, мечта о своем в один миг переходит к другому: прощай, товарищ, будь счастлив! – и все кончено.
Подумаешь об этом скором превращении себя в другого там, на войне, и трудно становится рассказывать о том времени, когда, строя дом, каждый думал о себе самом на всю вечность. За войну мы так много пережили, что, коснись меня теперь строить дом для себя, – я не решился бы, как тогда, идти к директору лесу просить.
VI. В тесноте, да не в обиде
Началось все наше строительство, конечно, от большой тесноты и постоянных обид женщин, теснящихся в общей кухне. В нашем маленьком двухэтажном доме нас размещалось шесть семей, и это был еще самый счастливый итееровский домик. Другие жили еще теснее. Но я должен сказать, что в наших лучших итееровских условиях больше было ропота и обид, чем у них в тесноте.