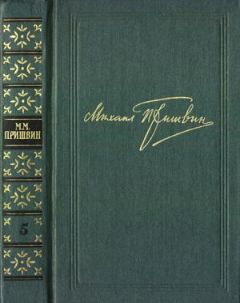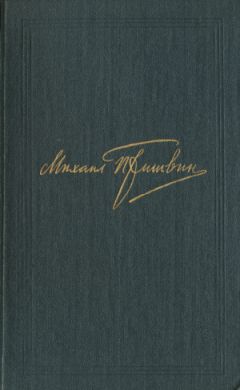Там в совершенной тесноте люди как-то больше дорожили питаньем, чем жилплощадью. Напротив, многие из нас предпочли бы недоедать, лишь бы в жилплощади иметь свой уголок. Я это не особой природой нашей или образованием объясняю, а что у пришлых из деревень рабочих настоящая их желанная жизнь была в своем деревенском доме, здесь же он жил временно. У нас, напротив, ни у кого ничего своего не было, и жизнь в этой тесноте для нас была не временная, а вся наша постоянная жизнь.
Находились, однако, даже и в таких условиях чудаки, кто утешал нас своей мудростью: «В тесноте, да не в обиде». А как же не в обиде, если за одной плитой горит шесть примусов, а у каждого примуса не одна, а часто две-три женщины: жены, тещи, бабушки и всякие племянницы и свояченицы.
Не хочу я, конечно, говорить чего-нибудь худого о наших женщинах; за исключением немногих, все были славные и милые, но теснота заедала всех. Возьму, к примеру, нашу Милочку, Людмилу Михайловну: маленькая молоденькая женщина, сказать бы лучше девушка, вся как незабудка на зеленом стебельке в кувшинчике, всегда веселая, всегда ласковая и до смешного добрая. Бывало, только и слышишь: «Милочка, принеси сковородку, Милочка, дай воды», – и так без конца всем делает, со всеми ласковая, а между тем сколько обид получает.
Нет, нет! что бы там ни говорили учителя смирения и терпения, я знаю, никто с этого меня не собьет: есть предел тесноте и обидам, когда именно даже нравственным долгом ставит себе человек дать обидчику сдачи и разломать тесноту.
Тоже и жена Вани-агронома Анна Александровна, дородная красавица с тремя хорошенькими детками: знаете ту силу красоты, когда она распространяется и на других переходит свободно и радостно, как власть и добро. Бывало, как войдет в кухню, как будто и свету прибавится, а выходит со слезами на глазах и вся в красных пятнах.
Тоже и Лидия Федоровна, медицинская сестра, до того порядочная, расчетливая и аккуратная женщина, смеялась над нашими хозяйками, как они постоянно чего-нибудь ищут. Это, конечно, не всем нравилось, и за немецкую свою аккуратность Лидия Федоровна часто получала острый русский ответ. Неделями, месяцами, даже годами не забывала она свою обиду и ходила с поджатой губой.
Сейчас я назвал самых интересных, самых достойных и красивых наших женщин, а ведь были, как и везде, злющие кошки, были никогда не смолкающие старухи, были живые скелеты, и даже была одна настоящая, как у Гоголя, ведьма.
Да, ты побывай-ка, проповедник смирения и терпения, сначала в нашей кухне, приготовь-ка себе обед, а потом и говори свое: «В тесноте, да не в обиде».
Никакого согласия не было у нас, и как всегда в таких случаях, жизнь мало-помалу приводит к полному разладу и заставляет людей браться за ум.
Произошло у нас в кухне такое, о чем потом связно рассказать никто не умел. Вышло вроде того, что ведьма обернулась в кошку, а кошка большой чугун со щами, заготовленными дня на три, опрокинула на горячую плиту, и поднявшийся пар на время скрыл все в кухне. Когда же разошелся – все увидели: большой чугун в опрокидку сидит на голове нашей чопорной медсестры Лидии Федоровны.
Вот тогда-то наша достойнейшая красавица Анна Александровна с пылающими щеками, с взволнованной грудью вышла из кухни, разыскала своего агронома и отрезала:
– Иван Гаврилович, иди сейчас же домой и сложи мне буржуйку: в кухню я больше никогда не пойду.
– Сию минуту, дружочек, – ответил Ваня и пошел складывать печку.
VII. Двойная бухгалтерия
С тех пор как Ваня сошелся с Анной Александровной, он, по-моему, как счастливый золотоискатель, нашел себе неисчерпаемый рудник. Он был один из редких у нас теперь счастливцев, какие в определенной им судьбой женщине находят себе вторую мать и так слушаются ее, как маленькие, и живут с нею всю жизнь, как маленькие с родной матерью.
На него-то вот именно я и намекал как на поборника старинного русского завета: в тесноте, да не в обиде. Завет сам по себе неплохой, если понимать его в том смысле, что первой причиной обид наших нужно считать недоброе состояние наших душ. Но у таких людей, как Иван Гаврилович, выходило это вроде того, что от самой тесноты и не должно быть обиды и что, значит, не надо бороться с теснотой самой по себе, а лишь улаживать между собой наши житейские отношения.
За эти двенадцать лет нашей жизни я вовлек ребят в чтение, мы с ними вместе в долгие вечера разбирали вопросы о выходе из нравственных тупиков, поставленные нашими десятью русскими мудрецами. Удивительно было, что с годами споры наши не затихали, а, напротив, все разгорались.
Ваня упорно твердил, что людей освобождать можно, лишь поскольку они сами себя изнутри освободили, и что, значит, выход к добру можно найти только в себе самом.
– С себя надо начинать, – говорил он, – и этому нужно учиться. На современном языке это называется «мобилизация внутренних ресурсов».
– Знаем мы вас, попов, – отвечал Алеша, – за чаем сидишь и говоришь о мобилизации внутренних ресурсов, а придет настоящая мобилизация, – и я – не я, и лошадь не моя, и сам в кусты.
– Ну, это, конечно, правда твоя, так у нас постоянно бывает, – добродушно смеялся верным словам Иван Гаврилович.
Не со зла спорили эти люди, а, по правде говоря, до войны времечка еще у нас хватало за чаем бороться в воздухе своими мягкими языками. Ваня в этой безобидной борьбе исходил из готовых залежей в своей природе. Из нового он выбирал только хорошее. И так душевное богатство скоплялось у него, как торф: поживал – наживал – складывал в душу свою, как торф складывается в лесу.
Но мой бедный Алеша спотыкался о каждую новую мысль и переживал сам за свой счет.
Перед тем как нам всем разойтись из нашего итееровского домика по своим углам, был у нас замечательный спор. Все началось разговором о реставрации церкви в нашем городе, о том, что все готово для службы, да только за малым дело: попа никак не могут найти; приходил один, очень старый, пожаловался на зубы: без зубов, мол, нет и голоса. Прихожане сложились по рублю на верующего едока и вставили ему зубы. А когда вставили, то оказалось, что это вовсе даже совсем и не поп.
Посмеялись мы над этим случаем, и тут Алексей Миронович шутя и говорит:
– Вот бы тебе так, Иван Гаврилович, славный бы из тебя вышел поп: зубы здоровые, прихожанам не нужно тебе и зубы вставлять.
На эти споры Иван Гаврилович, намекая на то, что Алеша часто ищет спасения в политэкономии и другом подобном, ответил так:
– А тебе, Алеша, я посоветовал бы поступить в коммунисты: там проповедуют материализм. Хороший бы, бескорыстный вышел из тебя коммунист. И как бы тебе пригодилась там твоя двойная бухгалтерия.
Это слово «двойная бухгалтерия» в наших идейных спорах всегда означало нравственный крах. От этого Алеша вдруг переменился в лице, зашагал по комнате, как бы раздумывая, говорить ему о чем-то своем или помолчать. Пройдя несколько раз взад и вперед, он остановился, посмотрел на нас испытующими чужими глазами и решился сказать:
– Насчет двойной бухгалтерии я думаю: скорее всего у вас-то, попов, она и есть двойная, со счетами богу и кесарю, а материализм, как ты говоришь, этот счет двойной выправляет. Тут один путь к правде. Одним словом, я к этому шагу долго про себя готовился и теперь решился: я уже кандидат партии. И ты прав: я буду неплохим коммунистом.
Тут Ваня смешался в свою очередь. Ему было это совсем неожиданно, и тихонечко, упираясь глазами в свое чайное блюдечко, он спросил:
– Ну, а как же, Алеша, наши прошлые споры с тобой и наши согласия?
И больше ничего не сказал. Да и не надо было. Алеша своими большими серыми глазами уперся в светлый блик на своей чайной ложечке и сказал:
– Что же делать! Приходится нам разойтись. Вот откроется скоро наша церковь, соберутся со всех сторон нищие, ты им по копеечке дашь, перекрестишься, а может, дашь и три рубля, скажешь: «на всех», и в церковь войдешь, сам будешь молиться, а нищие будут деньги делить.
– Что же плохого ты в этом видишь?
– Извини меня, так просто я не могу. Мне надо от этих уродов, собравшихся во имя Христа, отделаться как-то по-серьезному, по-современному.
– Чем же плоха тебе милостыня и чем она несерьезна?
– Несерьезна, по-моему, тем, что время такой милостыни прошло. Теперь это дело двойной бухгалтерии: милостыней с бедностью не справишься.
– Что ты мелешь, Алеша!
– Да, милостыней своей ты только себя утешаешь. А всякий настоящий современный благотворитель – это экономист и хозяин, и это потруднее, чем твоя трешница.
Тихонько, и все не отрываясь от чайного блюдечка, спросил Иван Гаврилович:
– Ты все сказал?
– Нет, не все. Ты хочешь все вопросы решить благополучно за чайком! Хочешь, как на исповеди попы говорят, когда им свалишь грехи: «Все тебе, раб божий, прощается». И прощеный раб уходит, ничего не поняв, и все забывает. А я молюсь: все понять, ничего не забыть и не простить.