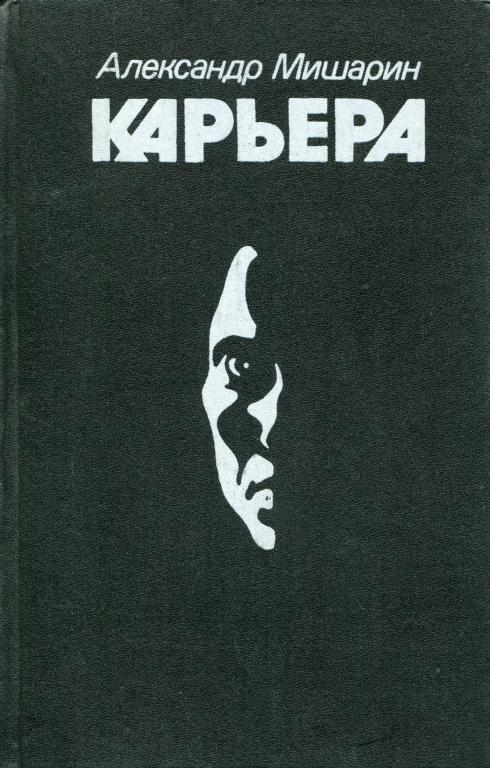не «ну»! А точно — договаривались! И в эту пятницу… И в понедельник! А сегодня — какой день?
— Ну… среда.
— Так почему ты не пришел в понедельник?
— Ну, понедельник… Известное дело!
— Опохмелялись! С деверем?
— Ну…
— Я бы сама вам поставила! Вы меня знаете… Я человека всегда пойму!
— Ну, это… Погулять еще хотелось!
— Это вы палатку на станции разбили? Пивную?
— Ну… С деверем!
— Он, что? Такой же медведь… Как ты?
— Да не, я один… Он так… Плёвый…
— А теперь… Вместо милиции ты ко мне пришел? А потом скажешь Онищенко, что у Корсаковых работал?!
— Ну… Не садиться же? За такое дело?! — искренне возмутился Василий. — Ну, своротили!.. Ну там… Пятое-десятое! Я понимаю — убили бы кого-нибудь?! А то…
Он смолк, завод его возмущения кончился.
— У тебя же — трое детей! — Февронья Савватеевна погрозила ему пухлым, маленьким кулачком. — О чем ты думаешь? Шавырин?!
— Ну! Я не такой!.. Я дом помню! Я Нинке в Покров сапоги купил… Сто дубов отдал! Эти… югославские!
Февронья Савватеевна некоторое время смотрела на него. Потом сказала, повернувшись к Александру Кирилловичу.
— Он ей «за сто дубов»… сапоги! А она у Дементьевых три дня уже гуляет!.. С ихними молодыми! Это как расценивать, по-вашему?
— А вам это… Откуда известно? — Корсакова раздражал ее учительский тон. — Это его личная жизнь! Частная, как говорится, жизнь! Это — неприкосновенно!
— А по-моему — это равнодушие! — парировала Февронья и, снова повернувшись к Шавырину, произнесла, как приговор: — «С Онищенкой… Я из-за тебя! Объясняться не намерена! В сотый раз!
Василий скис.
— Да, уж в прокуратуру дело пошло!
— Тем более…
— Я думал… — начал было плотник.
— Раньше надо было думать! — Февронья, сложив руки, смотрела куда-то за окно.
— Я думал… Вот он! — Василий кивнул на Александра Кирилловича. Так показывают на важный, но неодушевленный предмет.
— Еще чего придумал?! — возмутилась Февронья Савватеевна. — У нас этих… Блатмейстерских дел… Не в заводе!
— Ну чё… Ему стоит? — опустив глаза, бурчал Василий. — А беседку… Я враз подлатаю! И бесплатно! Мы понимаем — воздухом ему надо дышать!
— Да и некогда сегодня беседкой заниматься! Гости у нас… — голос ее мягчал.
— Да я мигом! И брусочки захватил! И вагу… — почувствовав ее колебание, заторопился Василий. — В лучшем виде все будет! В лучшем виде…
Он метнулся к двери, но его остановил голос Корсакова:
— А меня-то вы что ж… не спросили?
Шавырин озадаченно, почти испуганно, взглянул на него. Потом на Февронью. «Камни заговорили!»
— Да я с хозяйкой… Всегда, — растерялся Василий. — Вам-то… По годам вашим?!
— А это уж вообще… Черт знает что, — начал подниматься со стула Александр Кириллович. — Мои года — это мои года!
Василий открыл рот, чтобы повиниться, но Февронья Савватеевна остановила его.
— Ты начинай… Работай! — она подтолкнула его к двери. — А мы тут… Сами! Работай, работай…
Шавырин исчез за дверью.
— А вы, оказывается… В нашей местности — весьма влиятельное лицо?! — с недоброй иронией проговорил Александр Кириллович. — То-то я смотрю! То участковый на чай к вам пожалует! То магазинная «дива»… О чем-то с вами на кухне шепчется? А теперь, я вижу… У вас здесь — просто целая «дворня»… Владетельная особа!
— Я вам блокнотик принесла?! — отрезала Февронья Савватеевна. — Принесла! Вот и работайте!
Накинув платок, она хотела было двинуться во двор, но старик остановил ее.
— Вы что… Не поняли меня? — спокойно и строго спросил Корсаков. Так он говорил, когда был очень разгневан. Именно так — спокойно и строго. Его настоящий гнев проявлялся не в раздражении, не в криках, не в недоброй иронии, а именно так.
— А кто ж нам, старикам, поможет? — попыталась оправдаться Февронья Савватеевна. — Как ни простые люди?!
— К коим вы себя, лично, конечно, не причисляете? — спросил Александр Кириллович. — Вы же сами — не «простой человек»?.. Я вас правильно понял?
— Ну… Не знаю, — не смогла сдержаться Февронья Савватеевна. — Я, конечно… Не из каких-нибудь… Там…
— Договаривайте! Договаривайте…
— И договорю! Нечего кичиться! Это не интеллигентно!
Александр Кириллович передернулся, как от нервного тика.
— Если я вас… Интеллигентку! — процедил он еле слышно: Я еще раз… Увижу… С другим таким же… Интеллигентом! — Онищенкой, например?.. За моей спиной решающих, кого из жуликов и хулиганья спасать… Кого казнить… а кого миловать…
Он чуть перевел дыхание и закончил совершенно спокойно… Ровным и неожиданно молодым голосом:
— То я вас! Обоих! С лестницы спущу! Вместе со всей вашей «дворней»!
Он стоял, выпрямившись во весь свой немалый рост. Его большое, неожиданно стройное, худое тело чем-то напоминало сейчас Февронье Савватеевне Петра Первого (если бы тот дожил до глубокой старости!).
Александр Кириллович неожиданно быстрым движением взял палку и, резко повернувшись, двинулся в комнаты.
— Курица! — бросил, как плюнул, он ей через плечо. И захлопнул за собой дверь. Да так, что какая-то пыльная ветошь посыпалась из-за притолоки!
Из сада уже третий час раздавались удары топора, мужичья ругань, что-то глухо шмякалось о землю. Третий час металась над садом всполошенная, будто кладбищенская, воронья стая.
Он фактически был заперт в своем кабинете!
Не слышать ни посторонних шумов, ни голосов… Не видеть ничего перед глазами! Это всегда было, как обморок. Но спасительный, трезвый, сберегающий силы обморок.
Его учили этому еще давно… В Швейцарии. Их хорошо учили. Мсье Тюрпен и мсье… как его… Такой лысенький, в меру полненький… С совершенно неприметным лицом. Потом, позже, ему много раз приходилось повторять и повторять их уроки. Пока этот навык, эта способность не стала автоматической. Не стала его оружием. Если бы сейчас его кололи булавкой — даже в глаз! — он уверен, что не почувствовал бы боли. Не вышел бы из этого синенького холодка прострации.
«Потерял сознание… Обморок… Нервишки никуда!»
Это он слышал всегда, когда сам приказывал себе грузно свалиться со стула. Потерять сознание…
Да, все-таки великие мастера своего дела