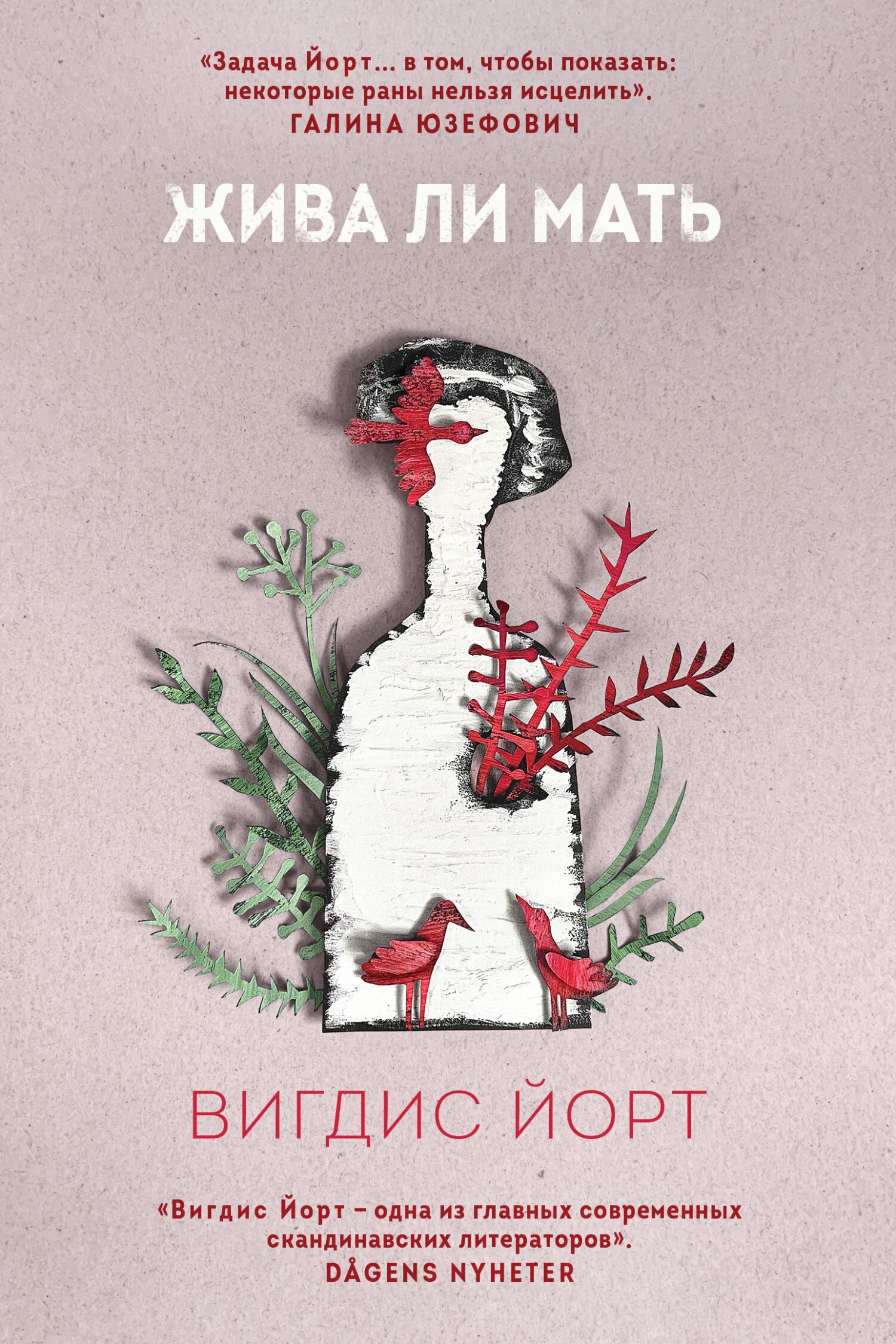кусты и кованое железо ворот, и большую яблоню тоже засыпало снегом.
Ночь железно-синяя и железно-серая, но по утрам выпадает много снега, мир белый, и в действительности настоящего появляется прореха, дыра во времени, было воскресенье, мы собирались на прогулку, гуляли каждое воскресенье, пешком или, когда погода, как сейчас, тоже в воскресенье, позволяла, то на лыжах. Отец, и мать, и Рут, и я на лыжах от Вассбюсетра до озера Труванн. Но в то воскресенье мать заболела. Я лежала в кровати, мы с Рут по-прежнему валялись в кроватях, как обычно воскресным утром, а мать с отцом пили на кухне кофе. Дом наполнился запахом кофе, движения были медленнее, чем по будням, дверь в мою комнату, как всегда, стояла открытой, и я прислушивалась. Мать сказала: «Я что-то неважно себя чувствую», я вытянула руку и приоткрыла дверь пошире, навострила уши, а мать продолжала: «У меня это вчера началось, какая-то дурнота, голова, сам понимаешь, и в теле слабость». В памяти так и отложилось – «голова, сам понимаешь». Ночью накануне мне приснился кошмар, и я пошла к родителям в гостиную в надежде, что мать проводит меня обратно в комнату, как порой провожала, когда я, проснувшись из-за кошмара, приходила к ним, но сейчас мать сказала: «Иди ложись, Юханна». Я тем не менее осталась стоять, надеясь, что она пойдет со мной, подоткнет мне одеяло, а ее волосы, которые мать распускала дома по вечерам, будут щекотать мне лицо и пахнуть миндалем, потому что мать мыла их собственным шампунем – он делал волосы густыми и блестящими, иногда я украдкой тоже мыла себе им голову, а после ходила и боялась, что мое воровство унюхают. «Иди ложись», – повторила она, и я пошла и легла, но слышала, как отец сказал: «Опять эта девчонка». Именно тогда матери и подурнело, голова разболелась, накатила слабость – все оттого, что отец так сказал.
Если бы люди знали, если бы они понимали, насколько детство определяет нашу жизнь, они бы не осмеливались заводить детей.
Мать, как и все остальные, могла заболеть. Отец не настаивал, чтобы она с головной болью шла от Вассбюсетера до озера Труванн. Услышав, что матери нездоровится, я и сама почувствовала недомогание, по телу разлилась слабость. Я лежала под синим клетчатым одеялом – поэтому тот синий клетчатый комплект постельного белья и пережил все мои переезды – мать кашляла, я кашляла, отец встал, прошел в коридор, открыл дверь в комнату Рут и позвал: «Рут?» – потом открыл дверь ко мне в комнату и сказал: «Юханна?» И, не дожидаясь ответа, велел нам обеим вставать и одеваться, потому что мы пойдем из Вассбюсетера до озера Труванн. Я закашлялась так, что заболела голова и тело тоже. Отец вошел в комнату, включил свет, подошел к окну, поднял штору, за окном ярко светило солнце, «Мне нездоровится», – сказала я. Отец вернулся на кухню и сказал матери, что я утверждаю, будто больна. Я представила, как мать поникла: она так хотела провести день в одиночестве, а я своей болезнью все испортила. Отец спросил, не следует ли всем нам остаться дома и вообще никуда не ходить, но мать возразила: «Нет-нет, нет-нет», внезапно здоровым голосом настояла на том, чтобы отец непременно отправился в поход. Я лежала тихо, словно мышка. Мать встала со стула, плетеное сиденье скрипнуло, и вот она уже стояла в дверях: «Отец говорит, ты заболела?» – «У меня голова болит и все тело вроде как ломит, – сказала я, – мне что-то нездоровится», – сказала я. Мать промолчала. «Наверное, лучше будет мне весь день в кровати полежать», – добавила я, чтобы она поняла, что я не стану ее донимать. Я надеялась и боялась, что она потрогает мне лоб и поймет, что температуры у меня нет, однако мать развернулась и вышла.
Я волновалась, пока отец и Рут не ушли. Рут оделась, мать, хоть и была больна, приготовила завтрак, сделала им с собой бутерброды и налила в термос какао, отец сложил все это в рюкзак, я прислушивалась, наконец все вышли в прихожую, входная дверь открылась, мне почудилось, будто меня обдало холодным воздухом, мать проговорила: «Хорошо вам погулять», отец ответил: «Все отлично будет», и мне показалось, будто он рад, что я заболела. Потому что сперва заболела мать, а потом и я, значит, они с Рут пойдут из Вассбюсетера до озера Труванн вдвоем. Входная дверь хлопнула, я ждала мать, но она не приходила. Она убирала одежду, ей хотелось побыть в одиночестве, хотелось сохранить это сверкающее воскресное утро для себя. Она заранее сверилась с прогнозом погоды и составила план, вот только я заболела, и план рухнул. И, возможно, она заподозрила, что я просто сказалась больной, а на самом деле не заболела, сделала это, чтобы все испортить, нет, нельзя так думать, я отогнала эту мысль. Мать думала, будто я болею, и я должна укрепить в ней такую уверенность, весь день молча лежать под одеялом. Но зачем мне болеть одновременно с матерью, если я весь день стану молча лежать под одеялом, какая тогда польза от моей болезни, я не знаю. На лестнице послышались шаги матери, тяжелые, потому что я лежу в комнате и мешаю ей радоваться тому, чего она так ждала.
Надо лежать тихо-тихо, чтобы одиночество наскучило матери настолько, что она затосковала бы, например, по мне, я закрыла глаза, чтобы лучше слышать. Мать прошла в спальню и легла. Такого я не ожидала. Ей хочется поспать подольше. Я тоже попыталась заснуть, но тщетно, когда я дышу, одеяло с шумом сползает, я старалась не дышать, стянула одеяло вниз, чтобы оно не сползало, в голове загудела, и я стукнулась головой о стену, гудение стихло, в глазах разлилось приятное тепло, я услышала жучков в стене и снежинки, падающие на яблоню, мать спала. А может, из-за меня мать не могла уснуть так же, как я не могла уснуть из-за нее? Мне захотелось в туалет, но выходить было нельзя, иначе я разбудила бы мать, если та, несмотря на меня, все-таки уснула. Не знаю, сколько это продолжалось, но потом дверь в комнату матери открылась, и мать осторожно вышла в коридор. Мать вдыхала воскресную тишину и одиночество, стараясь забыть о том, что я рядом, возможно, ей это и удалось. Мне хотелось и не хотелось, чтобы она забыла. Мать прошла в ванную и закрыла дверь, будь она одна, не стала бы ее закрывать, не закрывая