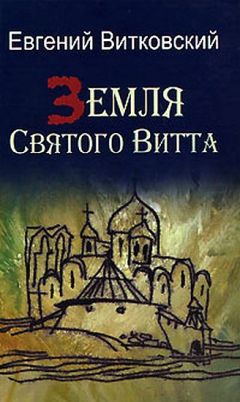И все было буднично, лишь одним удивил таможенников Борис, когда предъявил укупленное для досмотра. Он не взял не только молясин, не взял даже семги или лососины, не взял ни пушных товаров, ни даже точильного камня. Он набрал восемь пудов безделушек, как называли в Киммерионе эти товары, что годами пылились в лабазах на Елисеевом Поле и редко-редко расходились по очень низким ценам среди собственно киммерийцев. Нечего удивляться, что и Борису они достались за бесценок, хотя иные были сработаны декады три-четыре лет тому назад, да вот с тех пор так и не нашли покупателя. Но свод таможенных правил никак экспорт подобных товаров не ограничивал - столетиями выносили офени из Киммериона именно такое и такому подобное - задолго до того, как все было вытеснено молясинами. Стражники посоветовались с офенями, потом с резчиками и торговцами, и неожиданно бодро выдумку Бориса одобрили. Потому как нечего неходовому товару пылиться. Все одно из уже готовых вееров молясину не сделаешь, а сделаешь, так офени побрезгуют. А тут мамонтовая кость, рыбий зуб, кованое серебро. Пусть берет, пусть несет. Бориса проводили с наказом: непременно идти в город Арясин, да закупить там кружев. Мука - мукой (телевизоры тогда уже были, но далеко не японские - и моды на них особенной не имелось), а дочку замуж ведь и не отдашь без двух пудов арясинских кружев! А уж если к Мачехиным подход найдет, да у них кружева покупать станет - пусть тогда хоть все веера унесет из Киммерии, все бильярдные шары. В Киммерии прохладно и так, а шары по столу катать ни у кого времени нет.
Как ни рассуждай, был Борис Тюриков настоящим офеней, а поскольку первые годы своих трудов посвятил он тому, что утаскивал у купцов по дешевке откровенно залежавшийся товар, то за спиной дали ему вполне безобидную кличку "Санитар". Желающих последовать его примеру за все тридцать лет больше не появлялось, простой офеня твердо знал: молясины в Россию носить и богоугодней, и доходней. Настолько доходней, что иной раз чуть не в каждую церковь Киммериона можно свечу в полпуда поставить, да и на монастырь Святого Давида Рифейского кое-что пожертвовать. А уж насчет богоугодней простым же глазом видно, как мало молясин в России, как лихо распродаются самодельные - что уж говорить о настоящих киммерийских!
Однако Борис был не так-то прост (хотя не будь он достаточно прост - не признали бы его в свое время офеней). После удачного похода он, конечно, ставил свечи, даже дорогие, подолгу молился и просил отпущения главного своего греха, греха стяжательства, но киммерийские батюшки, привыкшие, что все как один офени именно этот грех свой считают главным (надо-то вот ведь задаром бы ходить! да ног таскать не будешь!...) пропускали покаяние Бориса мимо ушей и без епитимьи все грехи ему отпускали. А кто-то из лабазников, заказывая на Бориса и Глеба молебен во здравие раба Божьего Бориса, с потрохами выдал себя коллегам, и те при очередном визите непростого офени старались его к себе тоже зазвать. Если Борис еще не загрузил свои четырехпудовые тюрики, а лабазник не ломил цену, как Собакевич за мертвую душу, лежалый товар немедленно менял владельца. С годами Борис даже мог не платить всех денег, ему верили в долг, ибо первое, что он делал при следующем приходе в Киммерию - это долги возвращал. Безукоризненная честность Бориса вошла в поговорку (нечестных офеней нет в природе, но простому того не втюхаешь, что возьмет Борис, простому подавай молясин, молясин, молясин и ничего больше); с него никогда не просили дорого: на дорогой товар Борис лишь грустно глядел и с четырьмя "о" выговаривал: "Дорогонько..." В итоге через какое-то время товар дешевел, Борис слезно благодарил купца за уступку в цене, и товар покидал Киммерию. Куда сбывает он веера и шахматы - никого не интересовало, как-то влез в Арясине Борис к семье Мачехиных в доверие, и таскал в Киммерион пудами именно их кружева. Пшеничную муку приносил. Вьетнамские вяленые бананы - первостатейный товар для дальнейшего обмена у бобров. Словом, деньгами Тюриков ворочал огромными, хотя русских с собой не имел обычно никаких, разве что копейки. А киммерийские, полученные за свой добротный товар, до осьмушки обола оставлял в Киммерии, весь неистраченный остаток неукоснительно жертвуя на церковь.
Ангел с тюриками за спиной (вместо крыльев) был Борис, да и только. И никто, кроме лабазников, им не интересовался в Киммерии. Интересовался им только Гаспар Шерош, но по природной робости никогда не рискнул бы почетный академик (а также косторез, лодочник, мясник, банщик, бобер и многое другое) пойти с вопросами к совсем незнакомому ему офене. Да к тому же Борис всегда бывал такой занятой - не в пример академику, чаще посиживавшему в скверике и бисерным почерком записывавшему разные праздные мысли. Притом все, что касалось необычного офени, заносил Гаспар в записи при помощи минойской пиктографии, ее (да и то с трудом) могли бы прочесть лишь гипофеты. Словом, ничьего опасного внимания за все тридцать лет Борис Тюриков не привлек. Да и зачем бы? Офеня как офеня, их три тысячи. А что покупает не то, что все остальные - молодец, да и только.
Впрочем, Гаспар так не считал. Давно в записной книжке у него значилось:
"ТЮРИКОВ - офеня, который не хочет торговать молясинами. Оборот товара - вдвое выше обычного офенского. Покупает резную продукцию, приносит кружева и прочий дефицит. Если он в Киммерионе выполняет роль бактеориофага, то..."
Дольше пока не было ничего: академик так ничего и не мог выяснить. Ни на грош не обладая даром ясновидения, Гаспар просто нутром чувствовал, что ЛИШНИЙ какой-то человек в Киммерии этот офеня, не вписывается он в общую картину древнего Рифейского Убежища, из какой-то другой истории это человек. Неправильный, неестественный офеня, место ему не здесь, а в какой-нибудь апокрифической литературе, где главный положительный герой - Иуда; сгодился бы и советский шпионский роман, даже южноамериканская новелла с подкопами под Вавилон, словом, где угодно, только не здесь. Офеня - всегда камаринский мужик (потому что всю жизнь ходит по Камаринской дороге). А Тюриков - мужик, но почему-то не камаринский. Впрочем, такие головоломки жизнь подсовывала Гаспару ежедневно, еженощно.
Он весьма часто страдал бессонницей и бродил по безлюдному в ночное время, хорошо освещенному Киммериону, лишь он один мог увидеть, как некий достойный пристального внимания человек наносит визит в дом некоего другого человека, по каким-либо причинам достойного внимания. Только Гаспар мог пронаблюдать, как с полупустым мешком за левым плечом однажды вошел офеня Борис Тюриков на крыльцо к Илиану Магистрианычу, палачу-цветоводу. Увидев такое в третьем часу ночи, Гаспар сперва не захотел глазам верить, потом захотел, но понял, что на роль топтуна под окнами президент академии наук никак не годится. Гаспар поскорей удалился с Земли Святого Эльма, ничего дожидаться не стал, хотя славная мудрость "крепче знаешь - меньше спишь" была в самый раз для него (он старался знать больше, как можно больше, оттого и спал с годами все меньше и меньше) - знать слишком много он не опасался. Поэтому, придя домой, увиденное все точно записал, на всякий случай использовав самый древний, даже гипофетам почти непонятный вариант минойской азбуки - клинописную вязь. Постороннему взгляду эти строки показались бы чередой кусающих друг друга за хвосты бегемотов. Или еще чем, но никак не буквами.
В музее при Доме Петра один пергамент такой вязью был исписан, и никто, кроме Гаспара, целиком прочесть его не мог. Но даже он в этот пергамент не углублялся, это была всего лишь одна из довольно многочисленных копий Минойского Кодекса, который ни в оригинале, ни в каноническом переводе печатному станку предан не был. Древность начального свода киммерийских законов определению не поддавалась, лишь известно было то, что на берега Рифея киммерийцы пришли с уже весьма истрепанной копией допотопного оригинала. С тех пор в кодексе ничего не меняли, только перевели на современный язык, но и оригинал на всякий случай тоже хранили. Кодекс был невелик, всего триста уголовных преступлений без всяких подпунктов предусматривал руководящий документ Минойского судопроизводства. Притом над некоторыми статьями кодекса киммерийцы давно и в открытую потешались; статья 138 выглядела так: "А ежели какой мужик со своей овцой согрешит, выпороть того мужика примерно, овцу тож". Статья 139: "А ежели какой мужик со своей свиньей согрешит, выпороть того мужика примерно, свинью тож". Статья 140: "А ежели какой мужик со своей коровой согрешит, выпороть того мужика примерно, корову тож". Насчет коровы, заметим, статья имелась, бык был пропущен, зато статьи 141 и 142 радовали киммерийцев (особенно в минуты нетрезвого досуга) так: "А ежели кто с кобылой своей согрешит, тому наказания никакого, а кобыле задать овсу вдвое супротив обычного", - и соответственно: "А ежели кто с жеребцом своим согрешит, тому наказания никакого, да только покормить обоих досыта". Статей, предусматривающих совокупление с росомахой, рысью, медведем, куницей, соболем, горностаем и другой прочей чисто киммерийской живностью в кодексе не было, видать, не водилась эта живность в тех краях, где составлялся кодекс. Однако на все подобные случаи имелась грозная статья за номером 300: "А ежели кто еще какое преступление учинит, что выше не предусмотрено, тому смерть, либо же, по размышлению, простить того вовсе, но на оный случай впредь не ссылаться". Таким образом, минойское уголовное право не было прецедентарным и полностью сходилось в этом с обычным уголовным кодексом Российской Империи.