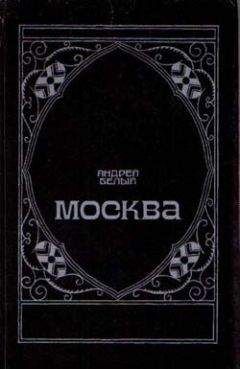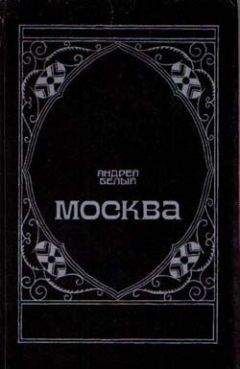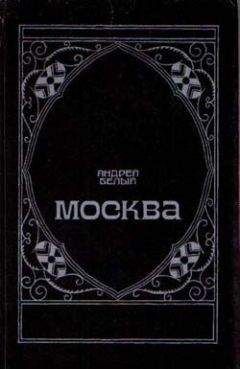Но Митя — заумничал: нет, нет, нет, нет!
— Понимаете сами… Бить…
— Митенька…
— Чорт, — я не кто-нибудь!.. Я и отцу, — он схвастнул, — не позволю… Я… мы веденяпинцы…
Крепко обиделся.
И — обнаружилось, что он имеет какое-то что-то: «свое»; о Мандро ему некогда думать; теперь он уж — сам; Веденяпина слушает он…
Перебила Лизаша его; стала спрашивать:
— Ну, а как с «этим»?
— О чем вы?
Она разумела — подлог.
Митя ей — с напускным равнодушием:
— Вздор: пустяки. И опять принялся:
— Веденяпинцы… Нас Веденяпин… У нас Веденяпин…
Обсамкался видно: такой — самохвал, самоус, с «фу ты», с «ну ты», еще удивило, что Митя попутно ей бросил: с нарочным небреженьем:
— Отец-то ваш: был у нас.
Будто хотел показать ей: у нас такой дом, что не «эдакие» еще будут в нем.
— Был?
— У отца.
И опять за свое:
— Веденяпинцы мы… Веденяпин у нас…
В разговоре он взлизывал воздух.
Опять непонятности: был у Коробкиных? Как непонятно, и то, что вчера «он» кричал в телефонную трубку: «Коробкин, Коробкин, Коробкин, Коробкин!» Да, мысли у «богушки» точно в коробке, — в коробкинском доме: что это?
Она посмотрела на Митю: он стал крепышом; он очистился даже лицом: прыщ сходил; да и взор в нем сыскался; — спешил:
— Вы побудьте со мною немного, Митюша.
— Нет, нет: мне — пора… Я ведь лынды оставил.
И вдруг с неожиданным пылом, которого не было в нем, он пальнул:
— Я хочу отличиться каким-нибудь доблестным подвигом.
Юрк — под воротами!..
* * *
Грустно стояла Лизаша: и — думала: Мити лишилась она; все ж, — они понимали друг друга: а вот с Переперзенко не представлялось возможности ей говорить: утверждал:
— Вы больны…
Ведь Лизаша жевала очищенный мел.
Только водопроводчик (полопались трубы в квартире) — сказал:
— Сицилисточка, милая барышня, вы.
И ей сунул брошюрку, в которой прочла она: жизнь ее
«здесь» — буржуазная; в «там» — жизнь грядущего строя; то — «царство свободы»; Лизашин прыжок из «отсюда в туда» был рассказан: прыжок — революция; странно: революционеркой себя ощутила в тот миг, как сейчас вот, когда показалось, что время, верблюд, став конем, будет рушить домовые комья: Москва — будет стаей развалин; когда это будет, когда?
Поскорей бы!
Перекривился в сознаньи ее социальный вопрос; все ж — он жил: очень остро; взволновывали отношенья с людьми; и особенно — с «богушкой», с ним говорила лишь раз о своем царстве в «там», куда время — бежало, куда убегала она, выбегая из времени; богушка — морщился; и в результате пришел доктор Дасс:
— Вы страдаете, барышня, — нервным расстройством.
Лизаша боялася улицы; ей — представлялось: она — из стекла; вот — прохожий толкнет; и она — разобьется. Склонение дня исцветилось сиянством: отрадным, цветным сверкунцом веселилася улица; у приворотни стояла какая-то сбродня; понюхавши воздух, заметил какой-то:
— А завтреча — подтепель.
— Вы завсигда это: сбреху.
— А энти вон воздухи…
— То — быть кровям!
Уж сверкухой прошелся по окнам закат; и окарил все лица; уже многоперое облако вспыхнуло там многорозовым отблеском; город стал с искрой: лиловый; потом стал — черновый.
И Грибиков вышел: и — гадил глазами.
* * *
Лизаша с недавнего времени «богушку» мыслью своей за собой тащила «туда»; упирался; и делался образ его в ней какой-то — не тот: дикозверский, осклабленный, странно пленительный; демоном в мире ее он внимал ее «песне»; и пелося ей все:
Я тот, которому внимаешь
Ты в полуночной тишине.
Так усилия мысли ее перешли в экзальтацию: солнечным шаром рвалось ее сердце; с тех пор началось — это все.
Эдуард Эдуардович раз ей сказал:
— Ты, русалочка, хочешь, — китайской тафтой обобье твою комнату?
Липкой губою полез на нее.
Но себя оборвал, отошел, потому что мадам Вулеву томашилась по комнатам только для виду; ее толчеи начинались всегда где-то рядом, когда Эдуард Эдуардович жутил с Лизашей один на один; меж гостиной и залом стремительно перевернулся; засклабился ртом; и прогиб бакенбарды, обтянутый торс, перегиб белой кисти руки, — все являло желание: поинтересничать.
Так постояли они друг пред другом, не зная, что делать друг с другом.
Казалось бы, — поцеловаться; Лизаше — похлопать в ладоши:
— Как папочка любит меня!
Но при мысли о том, что она поцелует отца, она вспыхнула густо; и тут же из двери просунулась флюсной щекою мадам Вулеву:
— Помешала я?
— Нет.
Поглядела и скрылась.
А он улыбнулся и быстро прошел сквозь проход; и проход выявлял, со столбиков статуи горестных жен устремляли глазные пустоты года пред собою, — не слыша, не видя, не зная, не глядя.
Лизаша прошла в длинный зал и открыла рояль, изукрашенный, белый и звонкий; бежали под пальцами клавиши — переговаривать с сердцем; заспорило с ней ее сердце: откуда-то издали, вторя стремительным бегам Лизашиных гамм, поднимался порой бархатеющий голос: как будто там пел фисгармониум; то — подпевал перебегам Лизашиных гамм Эдуард Эдуардович, сидя в фисташковом кресле и руки свои распластавши на львиных золотеньких лапочках кресельных ручек: в тужурке бобрового цвета и в туфлях бобрового цвета.
Под ним с потолочной гирлянды, сбежавшейся кругом, спускался зеленый китайский фонарь.
Почему-то она снова вспомнила, как там линейка рассвистнула воздух и свистом упала — на Митины пальцы; зачем это сделал он? Митю искала вернуть.
Все о Мите болела душою: и солнечным шаром рвалось ее сердце.
Штиблеты защелкали.
Викторчик, перебегая по залу таким щеголечком с портфелем из кожи змеиной, Лизаше отчетливо бросил, Лизашу минуя глазами:
— Бехштеин — превосходный: тон полный, густой!
Усмехнулся в передней себе самому.
Оборвавши игру, подняла свою глазки туда, где двенадцать излепленных старцев, разлив рококо бороды, поднимали двенадцать голов пред собою в пространство; тогда оборвался и голос, откуда-то ей подпевавший: Мандро, Эдуард Эдуардович, — шел в белый зал; и сказал, наклоняясь:
— Сыграй мне Шопена.
И пальцы (большой с указательным) соединил на губах:
— Ты мне, Ляля, сыграешь? Помазались пальцы.
Глаза разрастались на ней.
Все в ней вспыхнуло.
Тут появилась мадам Вулеву из дверей с неприятной ужимочкой, с эквилибристикой мимо Лизаши летающих глазок, всегда выражающих то же (я вам — не мешаю?); и видом две точки поставила; будто хотела сказать:
— Мэзами, обратите вниманье свое!
Эдуард Эдуардович очень любезно осклабился, будто просил ее взором:
— Простите!
Мадам Вулеву отвечала без слов очень сдержанно, с подчерком, что она, право, не знает, о чем это он вопрошает и в чем извиненья приносит; и сухо строчила словами.
Он — бурно любезен с ней был; он недавно еще подарил ей топазовый перстень.
Лизаша же съежилась, встала, пошла, — узкотазая, с малым открытым роточком. Лизаша дивилася:
Что ж это, что ж?
И казалось бы, — ясен ответ: просто ласка отцовская; все-таки странная; взор его в ней прорастал чем-то жутко-преступным.
Но — чем?
Будто взор свой взлил в душу; и взлив этот жизнь возмутил; с той поры началось это; будто ее облекали в чужое и ей неприсущее платье; ходила как в платье, в себе: в «мадемуазель фон-Мандро», у которой означились вдруг крупнодырые ноздри.
Весь день пробродила Лизаша походкой своей лунатической; и разжемалась; с киськой играла: курнявка раздряпала носик; а глаз разгоранье стояло; меж всеми предмет тами комнат твердела кремнистая ночь: и — замучили: неголюбивые помыслы:
— Полно вам томничать, — ей мимоходом сказала мадам Вулеву.
И послышался в ночь отщелк ручки дверной: Эдуард Эдуардович шел — коридором, столовой, гостиной, кружа по квартире, подняв свою руку с украшенным шандалом путь освещая себе; открывалась за комнатой комната выблеском золота рам (не квартира — картинница); дамаскировка тончайшая стали, фарфоры и набронзировка настенников, — свивы змеи, разевающей пасть, — выступали в круг света.
Круг — двигался.
В центре его проходил не Мандро: на стене отражалися не бакенбарды, а — дьявольщина.
Фон-Мандро обнаруживал очень кипучую деятельность. Посещая заседания акционерной компании, здесь председательствовал: Соломон Самуилович Кавалевер, просматривал счетные книги; а Панский, Жан Панский, которого в Стрельне прозвали Шампанским, Шантанским, а в прочих местах Шантажанским, подписывал чеки на крупные суммы; присутствовали: Преполадзе, Иван, грек Пустаки; Кадмиций Евгеньевич Капитулевич, француз Дюпердри, англичанин Дегурри (с таким медноцветным лицом), чех Пукэшкэ; все люди с практическим нюхом. И слышалось: