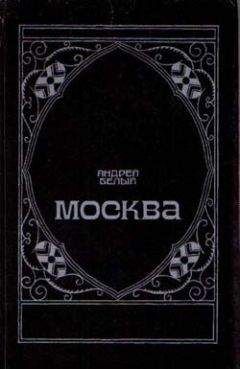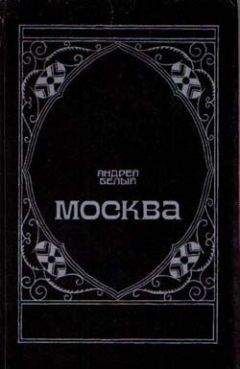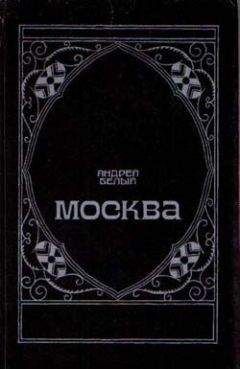— В штабе…
— Известно, что…
— Главное Интендантство спешит.
— Установлена с Константинополем связь.
Секретарствовал Викторчик, — так: «пустячок», как о нем отозвался, играя морщиной надбровья, Мандро.
«Пустячок» прилетал впопыхах с очень туго набитым портфелем: шушукаться; сортировали бумаги покипно; номерационную книгу рассматривали; после Викторчик вез вороха документов, скрепленных печатью «Компании», на Якиманку, к Картойфелю, родом из Риги, имеющему отношение вовсе не к фирме «Мандро», а к — представьте же — к фон-Торфендорфу, которому он, поднося вороха документов, коверкая русский язык, говорил с непонятным смешком:
— От Мандор: Ко Мандор.
«Ко» — «Компания»: странно, — зачем переделал Мандро он в «Мандора» какого-то; для каламбурика? Ведь называли же члены «Компании» — Капитулевич, Пукэшкэ, Пустаки — Мандро: «Ко-Мандором».
— Вы — наш Командор, — извивается Викторчик, шаркает и выбегает с портфелем, бывало.
Да, Викторчик!
Перебитной человечек, с миганцем, весь ползкий, тончливый, еще молодой, а уж гологоловый; моклявое что-то нем было; но взгляд — с покусительством; в доме лакеи любили его; не любил лишь Василий Дергушин, лакей молодой, человек положительный, очень хорошего тона; гостей обнося редерером однажды, услышал кусок разговора: с захлебами Викторчик тихо шептал Безицову, скосив на Лизашу глаза:
— Экстатичка, чуть-чуть идиотка: как раз ему пара.
— Она ж еще девочка… Он же ведь…
— Эротоман! Ну и много ж вы смыслите? И — гигигигиги!
— Эротоманы — несчастные люди, — вздохнул Безицов. И — стакан свой подставил.
Василий Дергушин, налив редереру обоим, пошел с редерером к Луи Дюпердри, к Мердицевичу, к Поку, гостей обойдя, — к Вулеву:
— Так и так-с!
Вулеву же, — Лизаше прислала портниха в тот день ее первое, длинное платье, — Лизаше сказала:
— Мон дье! Я же вам говорила: узехонько… Ах, дье де дье!
И пошла к Эвихкайтен, которая тщетно Лизашиной матери место занять собиралась; мадам Эвихкайтен бывать перестала; о ней говорили:
— Мадам Эвихкайтен — мадам с язычищем!
В коммерческом круге с тех пор домножались какие-то темные слухи.
Лизаша, Лизаша!
* * *
В последние дни, возвращаясь домой, Эдуард Эдуардович был озабочен; и все ж, несмотря на рои неприятностей, он молодился своим перетянутым торсом, представ пред Лизашею; ей улыбался, на ней разрастаясь глазами, пытался нежничать с ней — на отцовских правах:
— Подойди ко мне, Ляля моя…
И как будто нарочно, когда подходила Лизаша к нему, опускал он глаза в бакенбарды, скромнея лицом; но в глазах сверкачевки стояли у ней; и мадам Вулеву говорила;
— Вам нужно бы сверстниц; мы — что: старики… Мне пара вам, — нет…
Эдуард Эдуардович, тупясь, молчал; был отменно безен с мадам Вулеву: подарил ей подвесочки.
Раз услыхала Лизаша конец разговора между Преполадзе и Викторчиком; выходило, что есть с Кавалевером: ссора; ну что ж? Промелькнули словечки:
— По собранным сведениям: в шляпе…
— Старик вычисляет и ночи, и дни…
— Он — кончает работу…
— Теперь — заработаем…
— Сын…
Стало ясно, что «сын» это — Митенька, что «вычисляет старик» — отношенье имеет к бумажке, которую подобрала в кабинете, которая выпала после пред Митенькой в тот многопамятный день; ту бумажку она продолжала таить у себя из каприза, хотя она знала, что «богушка» тотчас бумажки хватился; и рылся в портфелях.
И — спрашивал:
— Вы не видали бумажки, Дергушин?
— Какой, я осмелюсь спросить?
— Да — такой, — показал он «какой», — мелкий почерк; на ней — вычисления: буковки.
— Нет-с…
— Не видала, Лизаша?
Смолчала: бумажка осталась (каприз!).
Ей казалось неясным: при чем тут профессор Коробкин? Зачем имена Кавалевера, Викторчика, Торфендорфа, Коробкина, перекрещались; Коробкин, Коробкин, Коробкин!
Коробкин!
Не нравился Викторчик; а Торфендорфа боялась: с Берлином и с Мюнхеном сносится; о Лерхенфельде каком-то, с которым дружит, — говорит; тут вскрывалась невнятность; стояла над ней безответно; и — знала: ответит гранитным молчанием: ночь!
Как прекрасен был выезд Мандро, облеченного в мех голубого песца или в черный, в соболий (такая же шапка), влекомого розовым мерином или караковым; в масленых яблоках: несся сквозь дымку метелей, сквозь подтепель марта.
А вслед — раздавалось:
— Мандро!
— Какой выезд!
— Какие меха!
— Какой конь!
Помножались какие-то темные слухи.
росли неприятности: и, задержавшись в конторе, когда разъезжались Иван Преполадзе, Пустаки, Дегурри, Кадмидий Евгеньевич Капитулевич, француз Дюпердри, — Кавалевером пикировались:
— Таки Торфендорфу открытие это обязаны сдать.
— Чем обязан?…
— Как чем?
— Мой почин: если бы я не открыл…
— И не вы…
— Все равно, — если б я не напал на открытие…
— Сами же вы обещали…
— Но я исполняю ведь, кажется, что обещал: человек мой сидит же…
— Баклушничает…
Замолкал, прикусивши губу.
Открывалось, что сила компании есть Торфендорф, — не Жан Панский, Шантанский; и — явствовало: Кавалевер — не звездочка в громком созвездьи: созвездие, перед которым поставили декоративный экран с нарисованными бакенбардами, с огромной рекламой: «Мандро». Нелады с Кавалевером — разогорчали; ведь ставился даже вопрос в очень вежливой форме: в витрине «Компании» не заменить ли модель восковую — моделью; а именно фиксатуарные баки не снять ли, чтоб выставить вместе с помадой губной завитую бородку Луи Дюпердри.
Торфендорфу понравится эта французская вывеска. После таких разговоров Мандро затворялся; нахмуривал срослые брови меж синими стенами очень гнетущего тона — в своем кабинете; пав в кресло, — в огромное, прочное, выбитое ярко-красным сафьяном, — чесал бакенбарду, немой, кровогубый и злой: от досады, от сдержанной ярости.
Вставши из красного кресла, хватал телефонную трубку: и позой заверчивость выразив, трубке показывал зубы:
— Алло!
— Сорок пять, двадцать восемь…
— Курт Вальтерович?
— Попросите, пожалуйста, фон-Торфендорфа.
— Курт Вальтерович, — зубил он, — все — прекрасно…
Но в ухо царапались злые расхрипы далекого медного горла.
— Да…
— Даа…
— Ну, конечно.
— Наладим…
— Да, да…
— Будет сделано…
Бросивши трубку, сосал он губу озабоченно; и пососавши, — за трубку хватался, вторично:
— Пожалуйста, барышня: пять, восемнадцать… Спасибо…
— Алло!..
— Это — Викторчик?
— Слушайте, Викторчик: я говорил с Торфендорфом…
— Ну?
— Я — успокаивал…
— Вcе же, поймите — нельзя так, нельзя: нет, нет, нет… — на столе он в кулак зажимал шерстяную струистую ткань. — Вы спешите: давите… Вы — жмите…
— Не хочет? — над носом сбежался трезубец морщин.
— Заболел? Пьет?
— Что ж Грибиков, старая крыса?
— Претензия?… Чорт…
Рука с трубкой рвалась:
— Хорошо же…
И трубку бросал.
И, возлегши локтями на кресло, висок прилагал он к согнутому пальцу; насупясь, помалкивал, взористый и густобровый, бросаясь от дел, волновавших его, к иным мыслям, — каким-то своим; и отваливался отверделым лицом; поворачивал ухо, прислушивался; и со странными скосами глаз поднимался, на цыпочках шел к коридорной двери, чтобы высунуться на отчетливое потопатывание удалявшихся маленьких ножек.
Она проходила походкой своей лунатической.
Он же — вперялся, на ней разрастаясь глазами; и вновь возвращался, вздыхая, к столу; и бросался в сафьянное кресло; задумчиво в воздухе взвесивши руку, другою финифтевый перстень на пальце вертел: и соленый, и злой, — точно сам себе ставил вопрос:
— Что же далее?
Пальцы дрожавшей руки отвечали прерывистой дробью…
— Ну да… Тратата! Остается одно, остается одно… 184
Но взволнованный этим, ему самому еще страшным решеньем, он, топая, вскакивал: и — перетрепетом звякали искрени люстры.
С докладом шел строгий лакей в кабинет фон-Мандро.
— Кто?
— Какой-то…
Какой-то просунулся в двери взъерошкой, в широковоротном своем сюртуке долгополом, с широко расставленным носом: прекрасные комнаты; кресла и лоск; тут заметил — стоит плоскогрудая девочка и, распустивши юбчонки, такою плутовочкой кажет ему свои мелкие зубы и — делает
книксены.
Носом ей сделал кувырк он:
_ Мое вам почтенье-с!
Ногою о ногу тарахнул; с промашкой сказал:
— Как вас звать, говоря рационально?