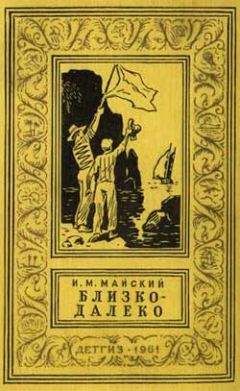Он засмеялся.
— Я не хитрая штука. Снова разберете!
Он оставил общество и уселся в свою двуколку, полный небывалого счастья, но мысли его омрачились, когда вместо Долинина он нашел на своем столе записку.
"Прощайте и не поминайте лихом. Она отреклась от меня. Ваш Н. Долинин".
— Совсем словно оглашенный какой, — объяснила, подавая обед, Ефимья, — влетел это во двор, конь-то весь в мыле (уж Елизар водил его потом, водил. Так и дрожит!), и сейчас на Елизара: беги, говорит, в деревню, чтобы в сей секунд лошади мне были. В город, значит. Елизар ему и то, и другое. Так и мечет. На, говорит, рупь тебе! За лошадей не торгуйся. Ну, и уехал!..
"Если бы такое письмо мне оставил брат его, я подумал бы, что он решился на самоубийстве", — подумал Весенин, но и Николая ему было жалко. Если вскоре у него пройдет это страдание, то теперь оно для него невыносимо тяжко.
Весенин прошел в спальню, взял книгу и прилег на постель, но читать ему не читалось. Необыкновенное чувство, которое он так долго, так настойчиво гнал от себя, теперь овладело им и наполнило ум его какою-то расслабляющей мечтательностью. Он встал с постели и велел седлать лошадь. Все равно день его на сегодня закончен, и гораздо приятнее провести его остаток там, в усадьбе, чем в своей одинокой берлоге.
Он сел на лошадь и, напевая вполголоса, поехал по знакомой дороге.
Весенин застал дам играющими в крокет.
Они были оживлены, даже Анна Ивановна засмеялась, крокируя шар Веры.
"Странная женщина, — подумал Весенин, глядя на нее, — нанесла тяжелый удар любимому человеку и стала веселее, чем была прежде. Словно гору с плеч свалила!"
Елизавета Борисовна и Вера радостно приветствовали Весенина.
— Вот и отлично! — сказала Вера. — Вы с Анной Ивановной, а я с мамой! — и она поспешно сунула в руки Весенина молоток.
Весенин послушно стал закатывать свой шар. Недалеко от них няня качала Лизу на качелях, и при каждом взмахе качелей Лиза громко вскрикивала.
Вера с Елизаветой Борисовной, выигрывая каждую партию, громко смеялись.
Они начала играть пятую партию, когда со стороны дороги донесся звон колокольчика.
— Папа едет! — крикнула Вера и, бросив молоток, побежала из сада.
— Сколько в ней жизни, и как ей с нами скучно, — сказала Елизавета Борисовна, глядя вслед убежавшей Вере.
— От вас зависит затеять веселье, — ответил Весенин, — созывайте гостей, пикники, спектакли…
Елизавета Борисовна покачала головою.
— Нет, в этом году я остепенилась. Довольно!
Можаев, обнимая Веру, вошел в сад. Елизавета Борисона подошла к нему, и он нежно обнял ее свободной рукой.
— Шабаш! — сказал он весело. — Освободился на целый месяц. Уф! Теперь пиры задавать будем.
— А я только что советовал это же самое Елизавете Борисовне, — здороваясь, ответил Весенин. Она покраснела, почувствовав на себе ласковый взор мужа.
"Что он и что я?" — мелькнуло у нее в голове.
— Ну, а канализация? — спросил Весенин.
— Победил, будем сами устраивать. Назначили комиссию…
— На жалованье?
— И, вообразите, без жалованья. Вот как мы! Ну, потом все расскажу, теперь переоденусь. Лиза, чайку бы! — и он пошел через балкон в комнаты. Следом за ним ушла и его молодая жена.
— А я вам поиграю, хотите? — сказала Вера Весенину. — Анна Ивановна, идемте!
— Я здесь побуду, — ответила она и наклонилась к подбежавшей Лизе.
— Сегодня я вам сыграю благодарность, — сказала Вера Весенину, подходя к роялю.
— Как? — не понял ее слов Весенин.
— Благодарность! Я ведь на рояле все могу. Слушайте: вот "здравствуйте"! — она взяла несколько аккордов. — А это: "Отчего вы такой задумчивый?"
Весенин засмеялся.
— Сыграйте: "Сегодня хорошая погода".
— Я вам ничего играть не буду, — шутливо рассердилась Вера, — вы смеетесь. Музыка передает только чувства. Благодарность я могу выразить, привет тоже…
— Ну, играйте благодарность!
— То-то!
Вера положила руки на клавиши. Была ли это ее импровизация или мотивы нескольких пьес, но Весенин никогда не слыхал от нее раньше такой оригинальной и красивой игры.
— Вы артистка, — сказал он с чувством, — и вдруг жалуетесь на скуку!
— Не все же для самой себя играть. Рубинштейну и то бы надоело!
— Чай пить! — позвал Можаев и, обняв Весенина, повел его в столовую.
— Ну, как вели себя наши дамы?
— Федор Матвеевич ничего не знает, потому что всего первый день с нами, — ответила за него Вера.
Можаев с улыбкой взглянул на нее. Все дела и заботы он отбросил от себя и теперь наслаждался тихим счастьем богатого семьянина. Чего ему не хватает? И его взгляд с любовью переходил от молодой жены к дочери.
Елизавета Борисовна передавала ему мелочи домашнего хозяйства, Вера шутила, даже Анна Ивановна говорила про Лизу, про погоду и про свое намерение ехать за границу.
Наступил вечер. Тонкий серп месяца показался в небе. Можаев закурил сигару, и кончик ее, как светляк, мерцал в темноте ночи.
— Ах, чуть не забыл, — сказал он вдруг, — тебе, Лиза, опять письмо от твоей портнихи. Уж не должна ли ты ей? — пошутил он.
— Где письмо? — сжросила Елизавета Борисовна, торопливо вставая.
— На! Провалялось в кармане. Не закури я сигары, и забыл бы!
Можаев подал ей конверт. Она с минуту посидела на балконе и незаметно скрылась.
— Жалко, что не поет никто, — сказал Можаев, — теперь спеть бы. Хорошим сильным баритоном. У меня был голос, когда я был студентом, только мы всегда пели одно и то же — "Gaudeamus"!
— А у нас так и этого не поют студенты. Как-то вывелось, — заметил Весенин.
— Вообще дрянь молодежь. Дряблая! То ли дело мое время! — и Можаев заговорил про свои студенческие годы, проведенные в Дерпте. Гимнастика, спорт, дуэли на шпагах, дуэли на пистолетах, факельцуги и бесшабашное веселье в избранном корпорацией биргалле.[5] Вера слушала его с восторгом.
— А вы, а ваши студенческие годы? — спросил Можаев Весенина.
— Я не был обеспеченным, как и большинство моих товарищей, — ответил Весенин и стал описывать свою жизнь в учебные годы. Занятия и рядом работа ради насущного дня, скитания по меблированным комнатам, холодная зима без теплой одежды, дни без обеда.
— То-то вы такой и хороший, — воскликнула Вера, и, если бы не темнота, Весенин увидел бы на ее глазах слезы.
— Ну, однако, и по домам, — заявил Можаев.
Был уже поздний час. Уходя к себе, Можаев стукнул в дверь жениной комнаты, но на стук никто не отозвался. Он прислушался, в комнате было тихо.
"Спит уже", — сказал про себя Можаев и осторожно прошел по коридору в свой кабинет.
Елизавета Борисовна не слыхала стука в дверь своей комнаты, потому что лежала в это время на ковре подле своего туалета в обмороке. Свечка тускло освещала большую комнату, в глубине которой в полумраке виднелась широкая кровать.
Прошло немало времени. В доме все уже улеглись, когда Елизавета Борисовна пришла в себя, поднялась на колени и бессмысленно огляделась по сторонам, но едва взор ее упал на лежащий на полу исписанный листок почтовой бумаги, как она тотчас очнулась, и судорожный стон вырвался из ее груди. Она встала на ноги и поспешно подошла к двери. Слава Богу! Войдя в комнату, она не позабыла запереть двери.
Она вернулась к туалету, подняла письмо и, сев в кресло, начала читать его снова, судорожно сжимая горло рукою, чтобы удержаться от рыданий. Прочитав только первую страницу, она лишилась сознания. Что же в целом письме? Все то же! Он отказывается от нее. Он слишком дорожит ею, чтобы подвергнуть ее репутацию двусмысленным толкам. Ха-ха-ха!
Елизавета Борисовна испуганно оглянулась на страшный раздавшийся хохот и не сразу сообразила, что это смеется она сама. Нет надобности приезжать в Петербург, потому что он на днях уезжает за границу с князем Д. Что касается денег, то нет сомнения…
Она судорожно, злобно стала рвать письмо на мелкие клочки.
О, подлость, подлость! Он дорожит ее репутацией, опозорив ее в городе, убедив сделать подлог! И она так верила ему, так любила его до последнего часа!
В то время, когда она обнимала его, прощаясь с ним, он уже готовил измену! Она вдруг сразу поняла всю ничтожность его души, ей стало стыдно, стыдно до ужаса. Обман, ложь, преступление — и ради кого?
О, позор! Она заметалась по комнате в отчаянье и ужасе. Она задыхалась и взмахом руки обнажила свою шею и грудь. Глаза ее безумно блуждали, полуоткрытый рот выражал ужас и презрение. Есть ли еще женщина, так низко павшая, как она, так глубоко оскорбленная. Перед нею встал величавый образ ее мужа и рядом фатовская фигура Анохова. Где были глаза ее, сердце, ум?..
Она не жалела о своих разрушенных мечтах, о своем разбитом призрачном счастье. Вся гордость души ее вдруг возмутилась при сознании своего унижения. Ей стало жаль себя.