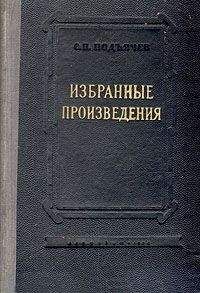Мы прошли полемъ, спустились подъ гору, въ лощину, перешли по мосту чрезъ занесенную снѣгомъ рѣчку и, взобравшись на гору, усталые, остановились покурить.
Съ горы, передъ нашими глазами, разстилался чудесный видъ. Куда могъ только проникнуть глазъ, уходила какая-то синяя, безконечная, какая-то наводящая на сердце и бодрость, и грусть, манящая къ себѣ даль. Надъ этой далью опрокинулось, какъ огромная чашка, голубое, ясное, необыкновенно прозрачное небо… Отдаленныя села, съ горящими на солнцѣ крестами церквей, черныя пятна деревень, полоса чернаго лѣса на горизонтѣ, высоко и быстро съ говоромъ летящія галки, сверкающій ослѣпительно снѣгъ, — все это радовало и ободряло. Что-то здоровое, свѣжее, радостное вливалось въ душу.
— Ну, и простору здѣсь, братцы мои! — воскликнулъ старикъ, заслонясь рукой отъ солнца. — Эва, какъ плѣшь!..
— Говори, слава Богу, погода утихла, — сказалъ солдатъ. — Кабы здѣсь да по вчерашнему — взвылъ бы! Вонъ какіе сугробы насадило! Есть гдѣ погулять вѣтру. Ну, трогай, ребята, верстъ двадцать съ гакомъ идти еще.
Мы пошли дальше. Вскорѣ насъ догнали ѣхавшіе порожнемъ мужики и любезно предложили подвезти. Старый мужикъ, широкоплечій и кряжистый, съ большущей бородой лопатой, къ которому вмѣстѣ съ солдатомъ я сѣлъ въ дровни, вытаращилъ на меня глаза съ такимъ удивленіемъ и любопытствомъ, что мнѣ стало неловко, досадно и смѣшно.
— Куда-жъ ты его, служба, ведешь-то, — спросилъ онъ солдата, не спуская съ меня глазъ, — въ замокъ, что ли?
— Сдамъ тамъ! — неопредѣленно махнулъ солдатъ рукой, — наше дѣло доставить…
— Тотъ-то никакъ старый? — сказалъ опять мужикъ, кивнувъ на другія дровни, гдѣ сидѣлъ старикъ съ солдатомъ. — А этотъ, вишь ты, совсѣмъ молодой, — обратился онъ снова ко мнѣ,- чай, поди, родители живы? Вотъ грѣхи-то тяжки. Эдакой молодой, а до чего достукался… За воровство, чай, молодчикъ, ась?.. Что рыло-то воротишь, а? стыдно!… И какъ живъ только? — началъ онъ опять, видя, что я молчу, — дивное дѣло! Эдакой холодъ, почитай, раздѣмшись!… Чай, тебѣ холодно, ась? Что молчишь, холодно баю, чай?
— Тепло! — сказалъ я.
— Быть тепло, онъ покачалъ головой, — ахъ ты, парень, парень!… Родители-то есть ли? Женатъ, небось, тоже, ась?..
— Его жена по лѣсу, задеря хвостъ, бѣгаетъ! — отвѣтилъ за меня солдатъ.
— Н-н-да! — заговорилъ опять мужикъ, — и много васъ такихъ-то вотъ, сукиныхъ сыновъ, развелось… дармоѣдовъ… То и дѣло на чередъ водятъ, отбою нѣтъ, одолѣли. Откуда тебя гонятъ-то?..
— Изъ Питера! — отвѣтилъ опять за меня солдатъ.
— Изъ Пи-и-итера, — глубокомысленно протянулъ мужикъ, — да, не близко. — Онъ помолчалъ и, снова обратившись ко мнѣ, спросилъ:- Неужли же тебѣ не стыдно?.. И давно ты эдакъ-то? А все, чай, водочка?.. Ты откуда? Чей?..
— Да отвяжись ты отъ меня! — сказалъ я, разсердившись. — Какое тебѣ дѣло?..
— А ты не серчай… такъ я. На, покрой ноги-то дерюгой, ознобишь, мотри… Ахъ робята, робята, какъ это вы сами себя не бережете!… Родителямъ-то каково на тебя глядѣть, на эдакого, какъ заявиться домой-то… Страшно подумать. И не стыдно! Правда, стыдъ не дымъ, глаза не выѣстъ, такъ знать?..
— Захотѣлъ отъ нихъ стыда, — сказалъ солдатъ, — у этого, отецъ, народа стыдъ подъ пяткой…
— Необузданный народъ, — сказалъ мужикъ, — отчаянный… вольный народъ… избалованный… пороть бы… шкуру спускать…
— Хоть убей, все одно, — сказалъ солдатъ.
Я сидѣлъ, слушалъ ихъ и думалъ:
«Ни на что такъ не способенъ и не скоръ человѣкъ, какъ на осужденіе своего ближняго».
— Осатанѣли! — продолжалъ разсуждать мужикъ, — вольный народъ… не рабочій… не ломаный… Работать-то лѣнь, ну, и допускаютъ сами себя до низости… Необразованный народъ… Ты, землякъ, по какому же дѣлу-то? — опять обратился онъ ко мнѣ,- мастеровой, что-ль, аль такъ трепло?..
— Онъ золотыхъ дѣлъ мастеръ, — сказалъ солдатъ и засмѣялся. — Чудакъ ты, дѣдъ! — воскликнулъ онъ. — Какой же онъ мастеровой… Чай, видишь, небось — жуликъ.
— Мастерство выгодное, сказалъ мужикъ и, отвернувшись, хлестнулъ лошадь и крикнулъ: Ну, голубенокъ, качайся… небось!..
Косматая, пузатая лошаденка махнула хвостомъ и побѣжала шибче, кидая копытами сухой снѣгъ.
— Вонъ въ томъ лѣсу, — указалъ мужикъ кнутовищемъ, — мы васъ ссадимъ… Мы отсель дрова возимъ на фабрику… Чай, жрать хочешь? — обратился онъ опять ко мнѣ и, ударивъ еще разъ по лошаденкѣ кнутомъ, продолжалъ, — погодика-сь, бабы, чай, мнѣ наклали лепешекъ… Гдѣ мѣшокъ-то?.. А, чтобъ те пусто было! Вотъ онъ гдѣ — подо мной…
Онъ развязалъ мѣшочекъ и досталъ изъ него двѣ лепешки, испеченныя съ мятой картошкой.
— Нака-сь, прими Христа ради, — сказалъ онъ, — поправься!… Чай, кишка кишкѣ шишъ кажетъ…
Я взялъ и, отломивъ, сталъ ѣсть… Солдатъ сидѣлъ и косился на меня, глотая слюни… Я видѣлъ, что ему хочется лепешки, а спросить совѣстно.
— Не хошь ли? — сказалъ я, подавая ему кусокъ.
— Ѣшь самъ-то, — сказалъ онъ и отвернулся, — что тебя обижать-то!..
— Да на! — опять сказалъ я, — съ меня хватитъ.
— Нешто кусочекъ. — Онъ взялъ кусокъ. — Спасибо! Признаться, — обратился онъ къ мужику, точно извиняясь, — поѣсть хотца… Чаемъ однимъ живемъ… а что чай — вода.
— Понятное дѣло, — согласился мужикъ и, подумавъ, сказалъ, — я вамъ, пожалуй, еще дамъ одну… ѣшьте на здоровье… съ меня хватитъ… ѣдунъ-то я не ахти какой…
Онъ досталъ еще одну и далъ намъ
— Ну, вотъ и пріѣхали, — сказалъ онъ, въѣзжая въ лѣсъ. — Слѣзать вамъ.
Мы слѣзли. Мужики поѣхали шагомъ и, свернувъ съ большака въ сторону, скрылись въ лѣсу… Мы пошли дальше.
Лѣсомъ было идти хорошо, и мы прошли его скоро. За лѣсомъ дорога пошла между кудрявыхъ, старыхъ, развѣсистыхъ березъ, насаженныхъ по обѣимъ сторонамъ. Мы шли, точно по аллеѣ какого-нибудь стариннаго барскаго сада. Дорогу успѣли наѣздить и идти было легко, тѣмъ болѣе, что насъ подгонялъ морозъ, больно пощипывая за лицо и скрипя подъ ногами.
Пройдя верстъ восемь, — до деревни, гдѣ былъ трактиръ, мы попросили солдатъ купить хлѣба на оставшійся гривенникъ и, отдохнувъ за деревней, около овина, на ометѣ соломы, тронулись дальше.
Солнце стало спускаться, холодъ усилился. Мы торопились, разсчитывая придти въ городъ засвѣтло. Мысль, что скоро будетъ конецъ нашимъ мытарствамъ, подгоняла насъ.
— Скоро придемъ, ребята, — сказалъ солдатъ, — недалеча… верстъ пять… Вотъ взойдемъ на лобокъ, и городъ видно.
— Слава Тебѣ, Господи! отвѣтилъ старикъ. — Семенъ! — обратился онъ ко мнѣ, - знакомыя мѣста… чай, бывалъ здѣсь?.. Что не веселъ, головушку повѣсилъ, а?..
Я молчалъ и думалъ, какъ, на самомъ дѣлѣ, я заявлюсь къ своимъ… Я зналъ, что невеселая готовилась мнѣ встрѣча… На душѣ было такъ тоскливо, что хоть бы вернуться и идти назадъ, опять снова голодать, холодать, валяться гдѣ-нибудь подъ нарами и знать, что ни кругомъ, ни около нѣтъ никого, кто бы сталъ «пилить» и читать житейскую, азбучную мораль на тему не «упивайтеся виномъ» и т. п.
— Ну, вотъ и городъ, — сказалъ * солдатъ, — эвонъ!..
Въ лощинѣ, версты за двѣ отъ насъ, раскинулся городишко. Лучи заходящаго солнца играли на церковныхъ крестахъ. Въ соборѣ звонили къ вечернѣ. Звуки большого колокола, тяжелые и рѣдкіе, медленно плыли и таяли въ холодномъ воздухѣ.
Старикъ снялъ картузъ и перекрестился.
— Слава Тебѣ, Создателю, — сказалъ онъ, — пришли! живы остались… Ну, а теперь что будетъ, увидимъ…
Мы вошли въ городъ.
Длинная, пустынная улица, съ почернѣвшими, занесенными снѣгомъ домишками, тянулась передъ нами. Мы торопливо шли по срединѣ ея. Рѣдкіе пѣшеходы останавливались и глядѣли на насъ, долго провожая глазами. Изъ подъ воротъ то и дѣло выскакивали собаки и съ лаемъ кидались на насъ. Какой-то, возвращавшійся изъ города домой, пьяный мужикъ, весь черный, какъ негръ, очевидно, угольщикъ, поровнявшись съ нами, обругалъ насъ на всю улицу матерно и долго смѣялся, остановивъ лошадь, намъ вслѣдъ, находя въ этомъ, должно быть, какое-то особенное удовольствіе.
Чѣмъ дальше шли мы, тѣмъ все больше и больше попадалось людей… Иные изъ нихъ качали головами и показывали на насъ пальцами… Бабы останавливались и глядѣли, разиня ротъ, съ такимъ напряженно-дурацкимъ выраженіемъ удивленія, на лицѣ, что, казалось, глядятъ онѣ не на людей, а на какихъ-то чудовищъ со звѣриными головами.
Какой-то лавочникъ, здоровый и красный, одѣтый въ короткій пиджакъ, перевязанный по брюху краснымъ кушакомъ, увидя насъ, подперъ руки въ боки и закричалъ:
— Господамъ-съ… съ прибытіемъ-съ… честь имѣю кланяться… все ли здоровы-съ!… Го, го, го! — заржалъ онъ на всю улицу.
Съ котомкой за плечами, горбатый и худой мужикъ, поровнявшись съ нами, подалъ старику монету и, снявъ шапку, перекрестился на церковь…
Все это — удивленіе прохожихъ, и пьяный угольщикъ, и толстый лавочникъ, и подавшій копѣйку мужикъ — дѣйствовало на меня удручающе. Я шелъ, мысленно моля Бога, чтобы вся эта срамота и униженіе кончились поскорѣе.