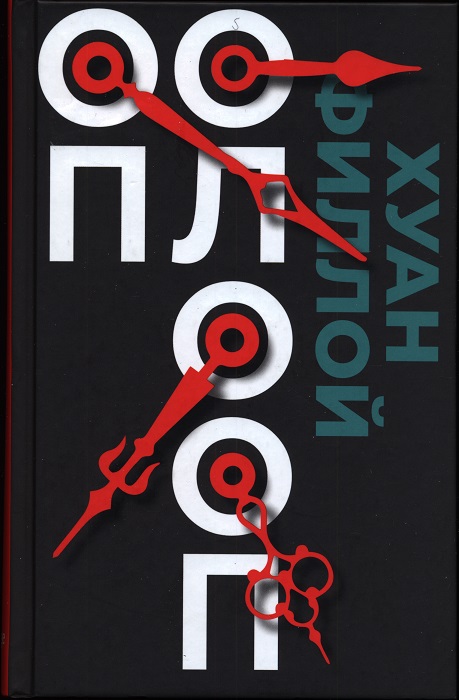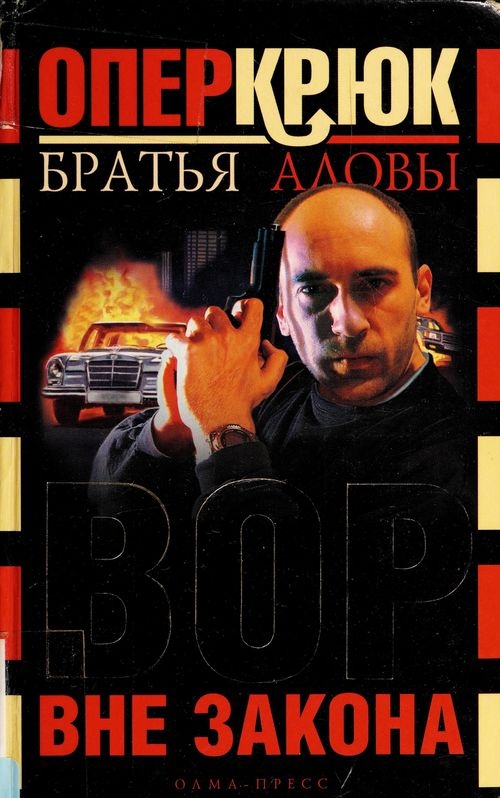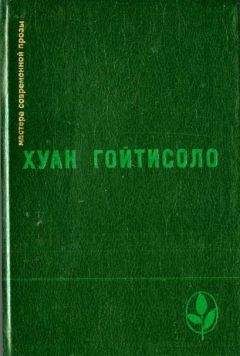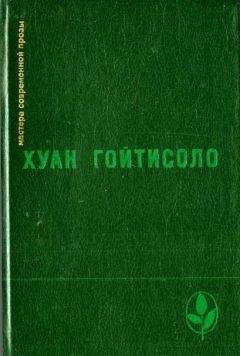бури и радости. А теперь посмотрите на него! На его лице мягкая улыбка осеннего солнца. От него пахнет ароматом спелых фруктов. Но он отказывается делиться с нами этими плодами! Как же так, если именно для этого он нас пригласил? Ваша последняя приманка, дорогой Оп Олооп, была хороша, но она не сработает. Я не проглочу ни Бога, ни жесткий бифштекс… Если оставить в стороне новые открытия, настоящую науку,
rerum magistra sciencia, [47] мы занимаемся лишь тем, что раскрашиваем новыми красками старый монолитный философский материал. В этом вопросе я согласен с Марселем Кулоном, знаменитым мыслителем, который торгует абстракциями точно так же, как я торгую людьми. Так вот, оставьте уже отговорки и объясните нам, в чем повод сегодняшнего банкета. Только без чеснока и петрушки, хорошо?.. Потому что так можно договориться до многого. Кстати, один французский эллинист доказал, что амброзией был прованский соус из масла, чеснока и яиц, похожий на майонез. Так что на Олимпе я чувствовал бы себя, как в моем любимом ресторане. Сейчас же, Оп Олооп, забудьте про соусы и говорите.
Сдержанные аплодисменты увенчали речь сутенера.
— За это надо выпить! — хором произнес ряд голосов.
Оп Олооп наполнил шампанским бокал сутенера и свой собственный. И, поглаживая стекло, как женскую грудь, поднес бокал ко рту, словно для поцелуя.
— Гастон, вы невозможно любезны. Вы вытягиваете то, что вам нужно, сбивая с толку вашей галантностью. Мне хочется ответить вам словами сына, призванного к смертному одру больного отца: «К чему такая спешка? Он протянет еще пару часов… Я-то думал, он уже помирает!..» Я понимаю, что любезность — ваш профессиональный инструмент, но мне не нравится, что она бархатом обволакивает мою волю и заставляет говорить вещи, о которых я предпочел бы умолчать. Признаюсь, стоит понять, что тебя раскрыли, и ты чувствуешь себя безоружным. Когда словесные маски сорваны, скрытые мысли, идеи и чувства сгорают от стыда за то, что не являются тем, чем казались, ведь все стремится выглядеть краше и приятнее глазу. Нарциссизм любого из нас проявляет себя во всем: от простейшей деятельности нашего бессознательного до самых сложных концепций сверхсознания. Что ж, я согласен поведать вам причину сегодняшнего ужина. Но сделаю это с чесноком и петрушкой, поскольку вы давите на меня, и я хочу отыграться, заставив вас пораздражаться из-за словесного соуса. Так я смогу не только покарать вас, но и угодить одному из полубогов мировой кухни. Когда я узнал, что чеснок продлевает жизнь, я ел его, но безо всякого удовольствия. Когда же мне сказали, что он относится к семейству лилейных, в употреблении чеснока в пищу для меня появилась настоящая романтика.
— Да, чеснок действительно относится к лилейным. Точно так же, как картофель относится к пасленовым, а персики — к розовым. Вы курите, когда едите пюре; душитесь, когда…
— Хватит, Пеньяранда! Не надо экстраполировать. Эдак вы скажете, что я растворяю алмазы в кофе, потому что сахар, как и алмаз, состоит из углерода. Совершенно логично, что вы, как комиссар воздушных путей сообщения, любите все, над чем парите. Но не забывайте, что петрушка — смертельный яд для попугаев, а я буду говорить с чесноком и петрушкой…
— По чесноку!
— Ничего смешного, Робин. Сегодня вечером мы олицетворяем собой семь вариаций с оркестром на тему цинизма. Может статься, что все мы, как обычно, сами того не понимая, играем в изысканной opera buffa. Наша досужая болтовня безупречна. Она выходит за рамки академического невежества и чванливой риторики. Я смеюсь над симпосиями Платона, Данте и Кьеркегора. Серьезно, я не хочу принизить ничьего достоинства. Но меня не пленяет краснобайство парижского журналиста, считающего чрезмерным сравнение динамита Свифта или Дидро с подмоченными петардами Бернарда Шоу… Подмоченными петардами! Ошибочные оценочные суждения, увы, слишком часты. Любая посредственность, причисленная к классикам, удостаивается похвал, нам недоступных. Чем, скажите мне, Алкивиад превосходит меня? Ничем, если не считать его увлечения «мясными колбасками», как выражается Робин…
— Ну и ну, Оп Олооп!
— …Чем путешествия святого Павла превосходят подводные скитания Эрика? Лишь пустословием: оба верили в победу, просто один предавался мистическому пиратству, складывая руки для молитвы, а второй — военному, нажимая торпедный спуск. Литературные подвиги Софокла, Виргилия и Цицерона представляют собой лишь досужую игру слов. А настоящие мужские поступки Бэрда, Бальбо и Алена Жербо пылятся ненужными бесплодными усилиями на задворках всеобщей памяти. Я протестую против отсталых людишек на кафедрах, в библиотеках и в семинариях, тоскующих по древнегреческим котурнам и средневековым сандалиям. Я протестую против эрудиции, которая присваивает себе красивые вещи прошлого и с презрением отвергает великие поступки настоящего. И извожу их со всем доступным мне пылом, потому что они предпочитают горчичники Асклепия немецкой терапии, теологическую плесень святого Августина антисептической морали Ромена Роллана.
Срывающийся голос статистика привлек внимание официантов и maître.
Завидев их, он взорвался:
— Что вы стоите? Ваша работа в том, чтобы прислуживать. Еще «Cordуn Rouge» для меня, «Cognac Napoleуn», «Grand Marnier»… Прислуживайте, лакеи!
И раздраженно продолжил:
— Нужно уметь правильно распоряжаться своей ненавистью! Моя ненависть справедлива. Я распределяю ее между теми, кто замерз в прошлом, и теми, кто потеет в настоящем. И если у первых развился геморрой эмпатии, у последних — определенно запор головного мозга. При этом они великолепно дополняют друг друга в деле предательства жизненного закона, повелевающего регулярно испражняться архаичными иллюзиями и современными уловками. Я всегда был человеком лояльным. Вам это известно. И потому никогда не принимал мудрость как спорт и несправедливость как необходимое зло. Мои чувства родились взъерошенными и росли, не зная ни расчески, ни лака. То же касается и моих инстинктов. Взращенные на воле, они не познали принуждения, которое омрачило бы их жаркую наивность. Я балую их, поддерживаю их и наслаждаюсь ими. Ибо они есть мой наивысший триумф. Я — человек по природе своей очень упорядоченный. Холодный, одинокий и жесткий. Ничего общего с людьми, похожими на строительные леса, что вынашивают планы, копят намерения и то и дело встают в позу. Мое творение, мой шедевр находится внутри меня. И я восхищаюсь им. Это не жалкие помостки, заваленные неудачами и прогнившие настолько, что могут развалиться в самый неподходящий момент, обнажив абсолютную, ничем не прикрытую пустоту души. Нет. Моя душа полна воспоминаний, единственной валюты, что имеет хождение внутри и позволяет купить грядущее снаружи. Потому что в этом моем одиночестве пампы, моем одиночестве неба я нашел самое прекрасное и притягивающее одиночество: одиночество жизни сложного мужского одиночества.
Выпив залпом, он продолжил:
— Моя судьба благодарна