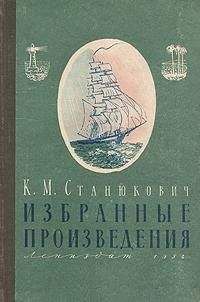И Даниловна пошла в двери.
Ее слова произвели на чахоточную сильное впечатление. Поражен был и Маркушка.
Но, когда он взглянул на мать и увидел выражение ужаса в ее лице и слезы на ее щеках, он бросился к матери и сказал:
— Мамка! А ты не верь… ведьме. Она брешет!..
И затем подбежал к окну, высунулся в него и крикнул Даниловне:
— Ведьма!.. Ведьма! С перепуги набрехала… Ведьма! Старая карга! На том свете за язык привесят…
— Подлый щенок! Тебя первого француз убьет!.. — прошипела Даниловна.
— Он не придет… А вот я возьму да и убью ведьму… Только приди. Утекай лучше к французам… Сама французинька!
И Маркушка кричал, пока Даниловна не скрылась в своей хате:
— Ведьма-французинька… Ведьма-изменщица!
Матроска только простонала. Но не от боли, а от тоски и обиды за свое бессилие.
Еще бы!
Даниловна страшно накаркала Маркушке, и матроска не могла подняться с постели, чтобы по меньшей мере выцарапать глаза «подлой брехунье».
Но больная все-таки почувствовала значительное душевное облегчение, когда слышала, как хорошо «отчекрыжил» Маркушка старую боцманшу.
И с гордостью матери, любующейся сыном, радостно промолвила:
— Ай да молодца, Маркушка! Не хуже настоящего матроса отчесал ведьму.
— То-то! Не баламуть. Не смей каркать, изменщица! — все еще взволнованный от негодования и сверкая загоревшимися глазами, воскликнул Маркушка.
— Изменщица и есть…
— А то как же? По-настоящему следовало бы прикокошить старую ведьму… Как ты думаешь, мамка?
— Ну ее… Из-за ведьмы да еще отвечать?.. И так навел на ее страху… Не трогай… Слушайся матери, Маркушка!
— Не бойсь, мамка… Не трону… Черт с ней, с ведьмой. Больше не придет к нам баламутить… Наутек поползет.
Матроска успокоилась и скоро задремала.
А Маркушка, уже отдумавший «укокошивать» Даниловну и довольный, что заслужил одобрение матери за «отчекрыжку» старой «карги», стал продолжать свой обед — тарань и краюху хлеба — и, прикончив его виноградом, тихонько подошел к постели.
Он взглядывал на восковое лицо матери. Он слышал какое-то бульканье в ее горле. И он невольно вспомнил слова Даниловны.
Сердце Маркушки упало. Ему стало жутко.
Он подсел к окну и жадно смотрел на безлюдную и безмолвную улицу — не проглядеть доктора.
Но страх понемногу проходил, когда Маркушка думал о том, что доктор, разумеется, быстро выправит мать какими-нибудь каплями. И она опять войдет в силу, станет крепкая и сильная, как прежде, и с раннего утра будет уходить на рынок к своему ларьку.
И он станет проводить время по-старому. Он опять будет с нею пить чай с горячими бубликами, с ней вместе уходить и заниматься своими делами. Он навестит Ахметку и Исайку, побывает на Графской: нет ли офицера, который куда-нибудь пошлет, заглянет к «дяденьке» и прокатится на шлюпке, поглазеет на лавки в Большой улице, пойдет к матери на рынок пообедать с нею, потолкается на рынке, поиграет в бабки с товарищами в слободке, потом пойдет купаться на «хрустальные воды» — в затишье Артиллерийской бухты около рынка — и вечером на бульвар или на Графскую и спать домой.
«Разумеется, доктор выправит мамку, и дяденька говорил, что мать не умрет. Зачем ей умирать?»
И, успокоенный за мать, Маркушка уже не смущается более ни мертвенностью ее исхудалого, изможденного лица, ни слабостью, ни ознобом, ни свистом, вылетающим из ее груди, ни прерывистым, трудным дыханием.
И в голове Маркушки пробегали мысли о французе, которого пустили, о пушках, которые видел утром, о толпе, матросах, об отъезде барынь, о словах «дяденьки», о Менщике, ушедшем со всеми солдатами не пускать в Севастополь, о гривеннике доброго мичмана, об адмиралах, куда-то спешивших, о Нахимове, который обнадежен матросами.
А палящий зной так и дышал в маленькое оконце… В низенькой комнате охватывала духота… А Маркушка так устал, летавши во весь дух на Графскую в обратно.
И Маркушка перестал думать. Он невольно приклонил лицо к подоконнику и моментально заснул.
III
— Протри зенки, Маркушка! — раздался над ухом мальчика грубоватый, с легкой сипотой голос.
Внезапно раскрывший глаза, Маркушка спросонья хватился бы затылком о раму низенького оконца, если бы большая, шершавая и вся просмоленная рука не лежала на его всклокоченной голове.
— Отчепни двери… А то дрыхнете, как зарезанные…
Маркушка сорвался с места.
— Кто там? — словно бы в полусне прошептала матроска.
— Тятька пришел! — радостно сказал Маркушка и побежал в сени снять щеколду с дверей.
— Ну, как мамка? — пониженным голосом, казалось, спокойным, проговорил приземистый, черный как жук матрос лет сорока, с загорелым смуглым лицом, заросшим черными волосами.
— Здорово исхудала… И не ест… Доктор придет сейчас.
— Доктор? Кто добыл?
— Мичман Михайла Михайлыч… Встрел на Графской, когда за вами бегал, и сказал, что мамка больна.
В знак одобренья фор-марсовой с «Константина» Игнат Ткаченко, в белой праздничной матросской рубахе и в парусинных башмаках на босых ногах, потрепал по спине сына и вошел в комнату.
Целую неделю не видел матрос жены и, как увидал ее, то едва не ахнул — до того за неделю она изменилась.
Матрос понял, что в эту комнату пришла смерть.
Но он скрыл от больной свое тоскливое изумление, когда подошел к ней. Он только осторожнее и словно бы боязливо пожал ее восковую руку с желтыми длинными ногтями и с еще большего шутливой грубостью проговорил:
— А ты что это вздумала валяться, матроска?.. Ден пять тебе отлежаться и, смотри, опять во всем своем парате в поправку…
— То-то и я обнадежена… А ждала тебя… Думала: загулял…
— Дура ты, Анна, и есть… Не спускали… Оттого и не пришел. И сейчас отпустили всего на один час… Разве что завтра отпустят.
— То-то зайди…
— А то, думаешь, не зайду… Скоро и вовсе на баксион переберемся… Тогда буду забегать. По другой части будем… вроде как крупа… На сухопутье…
И матрос стал рассказывать, что приказано затопить несколько кораблей на входе на рейд и остальные корабли разоружить… Орудия со всех кораблей на батареи и матросов к своим пушкам… И Нахимов будет и на сухой пути начальником… И Корнилов тоже. Башковатый адмирал… И оба они просили Менщика вытти всему флоту к французским и английским кораблям… Сцепиться, мол, с ними и — будь что будет, а изничтожить неприятельский флот… А Менщик не допустил. «Вы, говорит, адмиралы, зря только себя изничтожите… На них корабли все с машинами жарят под парами… Куда хотят, туда и иди, вроде как праходы… А вы-то что с одними парусами? Ежели ветра не будет — что вы поделаете?.. А он всех и перетопит… Будет себе палить, как ему вгодно, и шабаш!..» Нахимов и покорился… Ничего не поделаешь…
И матрос примолк.
— Так как же, Игнат? — спросила матроска.
— Насчет чего, Аннушка? — переспросил матрос, отводя взгляд, чтоб не смотреть на эти тревожные лихорадочные глаза, глубоко запавшие в глазницы.
— Значит, он придет к нашему Севастополю? Господь допустит?
— Ни в жисть! Нахимов с матросами не допустит. Всех французов перебьет! — с задорной уверенностью и не без отваги воскликнул Маркушка, сообразивший, что отец не забегал по дороге в питейный и, следовательно, зря не треснет.
Однако на всякий случай Маркушка попятился к дверям.
Матрос не поднял своих клочковатых, нависших бровей, придававших его добродушному лицу свирепый вид, и не сжал руки в здоровенный кулак.
Он взглянул на Маркушку с какою-то ласковой жалостью, точно понимал, что мальчик скоро будет сирота.
Но для порядка отец все-таки не без строгости проговорил:
— Видно, давно не клал тебе в кису, Маркушка!
— На прошлой неделе наклали, тятенька!
— То-то давно! — усмехнулся матрос. — Вовсе ты стал отчаянный, Маркушка! Скажи пожалуйста, какой вырос большой матрос. Рассудил!
И, обращаясь к жене, прибавил:
— Не сумлевайся, Аннушка… не оконфузимся… Скоро обозначится война. Князь Менщик окажет, какой он есть генерал против французского, ежели к десанту не поспел… Еще, может, поправится… Ну и то, что у их все стуцера, а у наших таких ружей нет. У француза стуцер далеко бьет, а нашему ружью не хватает дальности. Вот тебе и загвоздка.
— Зачем же нашим не роздали стуцеров? — нетерпеливо спросил Маркушка.
— Ой молчи, Маркушка… Не перебивай… Съезжу!
— Слушай, что отец говорит, Маркушка! — ласково промолвила матроска.
Матрос продолжал:
— К строку не изготовили этих самых стуцеров. Солдатику и обидно. И ежели Менщик в полном своем генеральском понятии да скомандует: «В штыки, братцы!» — крупа не осрамит своего звания и врукопашную… Не так обидно… Француз — известно, жидкий народ — похорохорится… однако не сустерпят штыка… И драйка к своим кораблям и гайда домой… «Ну вас!.. Не согласны»…