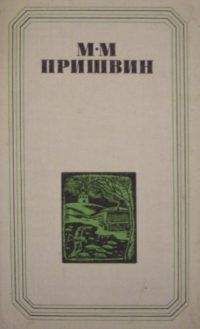Итак, разбирая все, заключите свою композицию победной осенью, когда в конце летней борьбы света и тени за лето макушка можжевельника поднимется на целый сантиметр вверх ближе к солнцу.
– Что же это будет? – спросили студенты.
– Это будет, – ответил я, – картина жизни вселенной в борьбе света и тени с героем всей этой борьбы величиной с палец.
Студенты что-то поняли, чему-то очень обрадовались, выкопали мое деревце, уложили в корзину с грибами и унесли, – наверно, для опыта построения картины вселенной.
Я же продолжал сидеть у дерева и думать о слове не со стороны тщеславия, о слове, собирающем совсем не знакомых мне людей в храм природы.
Зачем унывать литератору, если самому можно быть для всех величиной с палец и в то же время быть героем вселенной?
Из биографии
Пришлось вчера, отвечая на вопросы гостей, рассказать о своей скитальческой жизни и бедности. Мне стало скучно от самого себя, и я вспомнил Руссо: ну, он бился в нищенстве, так уж и было ему из-за чего биться, а из-за чего я? Нужно лишь удивляться, какая же во мне содержалась масса горючего, если я так долго жил на таком скудном положении.
Только с приходом моего друга в шестьдесят шесть лет я наконец понял, что почти у каждого человека есть свое счастье и он за него держится. Я тогда впервые получил для себя это маленькое человеческое счастье и впервые без стыда мог взглянуть в лицо человеку. Она меня спасла, я без нее так бы и остался скитальцем по грязной воде без калош.
Но, боже мой, чье же это было «я», когда я писал все «я» да «я»? Так стыдно вспомнить и разбирать, от какого лица я писал! А между тем из этих писаний что-то осело хорошее и осталось. Это удивительно. Это как природа, как свидетельство жизни за пределами разума, за пределами личного.
Моя тропинка
Сколько за день было на небе тяжелых синих облаков и темных дождевых, сколько раз принимался дождь и опять сияло солнце?
Но вот солнце чистое село. Все улеглось, все прошло: и дождь, и солнце, и слезы, и радость бабьего лета.
Мне осталась одна радость, моя тропинка в гору, и там далеко наверху у калитки своим светом горящий куст, свидетельствующий о моем друге.
Поднимаясь золотой тропой к себе в свой дом, я подумал о признанных всеми словах: «Я мыслю – значит, я существую».
– И пусть их, любители, мыслят и существуют, – сказал я. – Много больше я себе друзей наживу, если скажу: «У меня есть друг, я люблю – значит, я существую».
Мастерская жизни
Если я обращаюсь к потоку еврей собственной жизни, где я был и меня теперь там нет, и мне там моя собственная жизнь в отношении себя, нынешнего, представляется внешней, то удивительно мне неразбиваемое единство себя в книгах моих…
…Мы умираем, вступая в сознание единства организма, и жизнь показывается, как, например, мастерская, где происходит отделка рабочих частей: жизнь – это наш точильный камень.
Деревья опадают, животные линяют, и человек тоже страдает.
…Переговорил с Л. о работе над дневниками и преподал ей обращаться с дневниками, как будто бы я умер и все к ней пристают, чтобы работать над ними. И она работает, как будто бы я умер, а когда понадобится, будет меня вызывать.
Листва и листья
Последнее кувыркание в воздухе отяжеленного росой желтого листа, – и он навсегда расстается с формой листа и присоединяется внизу к массе ароматной тлеющей листвы.
Лист, упавший в листву, был ведь тоже единственный, как и я среди людей, и едва ли найдется во всем лесу другой такой листик, чтобы с ним мог жилка в жилку сложиться, а теперь в листве он будет слеживаться, вместе преть и соединяться с массой как удобрение.
Но тут сходство наше и кончается: у них гумус – это все, а у нас есть что-то еще сверх этого, и мы это что-то называем в собственном смысле человеком.
Осенняя мелодия
Тонкая осина в лесу достигала света и, поднимая высоко вершину, теряла все боковые сучки. Когда же лес вырубили, осина высокая и голая осталась с метелочкой листиков.
Теперь даже и от этих листьев осталось немного, и на каждый листик сейчас, как на клавиш, нажимает невидимый палец, и осенняя мелодия, какую мы все слышим, когда бываем в одиночку в таком осеннем лесу, кажется, исходит из-под невидимых пальцев.
Мелодия эта осенняя была скорбная мелодия человеческого духа о том, что не могут знать эти бедные деревья, какая любовь к ним содержится в душе человека, принужденного эти деревья рубить.
И еще в мелодии леса было о том, сколько погибло деревьев, с тех пор как тут был первобытный лес, умаляющий в ничто человека.
Сколько погибло великанов под топором и пилой, пока наконец человеческое сердце теперь может открыть в этой осенней мелодии, сколько любви содержится в сердце человека и сколько слез он должен пролить, чтобы можно было сказать наконец о любви.
Двойная радуга
Утро мягкое, росистое, стекла потные, на дереве там где-то за окном на каком-то листике капля дрожит – почему она дрожит в такой тишине? Дрожит и меняется в цветах – почему она все время меняется?
В лесу, куда луч проник, где-нибудь сквозь полог в окошке над поляной пар поднимается. Почему же пауки как нападут на какое-нибудь дерево, так всего его обвешают паутиной?
Почему в росистое утро прохладное особенно много паутины? Не потому ли, что роса их убирает каплями: делает заметными?
Мелькнула жизнь моя в своей подчиненности чему-то неведомому… и вдруг я подумал: а если б я выбросил из себя подчиненность, если бы я вывернулся и стал сам на то место? Я бы тогда стал Наполеоном, Александром Македонским или… пристроился редактором.
Я бы тогда не видал, как вчера, на мокрой лесной вырубке на опушке леса двойную радугу.
Гусеница
Ветер ли это сделал, или сама гусеница неосторожно приползла на самый край листа дерева и полетела вниз с высоты дерева? На пути ее была паутинка, и она гусеницу задержала. Это была очень маленькая гусеница, червячок в булавку толщиной и вдвое ее короче.
Какое ужасное положение было этой гусеницы! Привешенная к концу паутины, очень длинной, она раскачивалась по ветру, неустанно корчась, сгибаясь и разгибаясь.
Нас было двое сидящих на пнях против гусеницы.
– Безвыходное положение! – сказала подруга моя, принимая жизнь гусеницы к своему человеческому сердцу.
Я всегда мучусь, когда вижу положение безвыходным. Но я стараюсь удерживаться и не направлять свое такое внимание на червей. В этом случае через гусеницу я почувствовал сострадание к своему другу.
«Чем бы утешить ее?» – стал я думать.
Так прошло сколько-то времени, и вдруг я заметил, что гусеница на невидимой нам паутине стала повыше того места, где мы ее заметили; еще прошло время, и еще выше стала гусеница.
– Ползет! – сказал я.
Мы молча стали следить за гусеницей, и я очень радовался, веруя вообще смутно, что для деятельного существа нет положения безвыходного и что безвыходное положение рождает героя.
– Да, она ползет! – сказала моя подруга.
– Вот видишь, – ответил я, – героическая гусеница разрешает вопрос о свободе и необходимости.
– Ползет! – вздохнула моя подруга. – А что, если она ползет, а на другом конце паутины ее поджидает паук?
Мы так часто спорим в этом духе, и, наверное, так многие спорят и помогают пессимистам вместе ползти тоже по какой-то невидимой паутинке,
Если понадобится этот ключ
За липами, облетевшими, сквозными, золотится небо, на желтом черные все неправильные зубчики леса. Это с далеких времен волнующая тайна с предчувствием какой-то грани человека (помню, это же писал я в свои двадцать девять лет, этими же даже словами).
Вот это вживание в природу и является ключом к моей литературе, если только понадобится кому-нибудь этот ключ.
Без друга
Есть радость, когда никого не надо, и ею насыщаешься сам в одиночку. Есть радость, когда хочется непременно ею поделиться с кем-нибудь другим, и без друга почему-то эта радость не в радость и может даже обратиться в тоску.
Моя природа
Моя природа есть поэтическое чувство друга, – пантеизм далеко позади, – друга-человека, составляющего вместе начало общего дела, начало коллектива.
Туманное небо
Из тумана даже моросило, и, естественно, скука создавала в себе самом из мыслей своих небо туманное. Идешь, будто сам в себе или где-то на небе, не обращая ни на что внимания. Но вдруг (отчего-то всю жизнь стараюсь понять, отчего?) – вдруг с этого неба спустишься на землю, и тут пусть даже капля этого самого тумана, осевшая на последнем листе облетевшего дуба, встретит тебя с необычайной радостью, создавая в тебе жадное внимание.