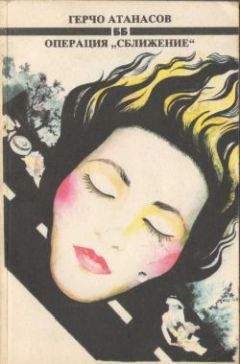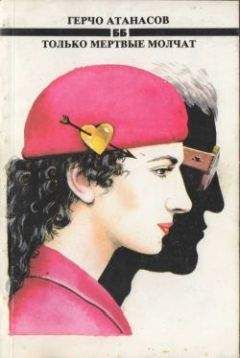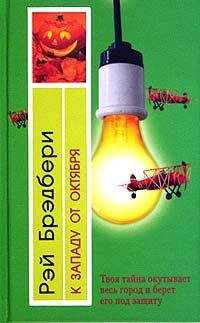и амбиций — произрастают личности, претенциозно выдвигающие собственные идеи и доморощенные теории, но тем более страстные и непримиримые…
Конечно, к Еньо это не относится, потому что он скорее был оруженосцем, обычным люмпеном. Но дело осложняется тем, что именно он напал на Нягола и Трифонов, кажется, то ли не понимает, то ли не чувствует, что трагедия, разыгравшаяся в сельской корчме, далеко не ординарный случай. И не только потому, что Нягол мог умереть там же, на полу, рядом с Еньо, а потому… Хорошо еще, что Трифонов сам упомянул о том, кто вдохновлял Еньо, это в какой-то мере снимает с него вину Корень зла здесь, но говорить об этом Няголу не стоит.
— Трифонов, — сказал он, выслушав секретаря, — я не хочу опережать события, но мне кажется, что Еньо следует исключить из партии — посмертно. И это будет не просто символика. — Трифонов кивнул. — А что до Нягола, то он человек везучий.
Гость сказал, что хотел бы увидеться с Няголом наедине. Его проводили в палату, сестра сообщила, что больной не спит. У порога Трифонов шепнул Весо, что будет ждать его в комитете. Весо кивнул и нажал на ручку двери.
Неожиданность была полная для обоих: Нягол не ждал его, а Весо был поражен наступившей в нем переменой. Они обнялись, тихо, по-мужски поохали. Весо ощупывал сквозь пижаму костлявое тело, плечи Нягола торчали, будто крыша пагоды, его крупный нос, казалось, растаял, на нем обозначилась тоненькая ниточка вены, от мясистых губ остались какие-то лиловые червяки.
— Да ты ли это, человече? — спрашивал Весо, держа друга за плечи.
— Я, человече.
Весо заглянул ему в лицо.
— Знаешь, на кого ты стал похож?
— Откуда мне знать?
— Ладно, в другой раз… — Весо придвинул к себе, стул и сел. — А теперь рассказывай.
— О том, что видел там? — лукаво спросил Нягол, показав взглядом на потолок. Его запавшие глаза смотрели проницательно.
— А ты запомнил все, что видел?
Нягол поджал и без того истончавшие губы и стал походить на беззубого старика, лицо его приобрело скряжническое выражение.
— Запомнил, Весо: страшно только в предпоследний миг. Сама же смерть — сладкая истома. Проваливаешься по всем направлениям сразу, а ощущение такое, будто летишь в бездонную пропасть.
Весо удивленно слушал.
— Никаких очертаний, красок, звуков, ни вздоха, ни боли — только бесплотность и невесомость…
— А ты, часом, не поэтизируешь?
— Это длится мгновение — не больше.
— И никакого сожаления или ужаса?
— Нет, только новизна ощущения. Знаешь, почему в смерти есть нечто от зачатия?
Над этими словами Весо немного призадумался.
— Я слыхал, что тяжело раненные долго не теряют сознания, — сказал он.
— Я очнулся уже в скорой помощи.
— И ужаснулся?
— Нет, примирился. Сказал себе через боль, через силу: так-то, брат Нягол, это конец…
— Гм, не знаю, насколько точно можно было судить об этом на твоем месте.
— А я и не старался, — ответил Нягол, ничуть не рассердившись. — Второй вспышки не будет — это я тоже сознавал.
— Значит, ты все-таки видел выстрел?
— Мельком, потом раздался грохот… А может, я его и не слыхал.
— Ты хотел взять Еньо сбоку?
— Что-то вроде того.
— И он тебя заметил.
— Скорее почувствовал. Он был интуитивной натурой.
— Алкоголик и садист!
— Весо, все далеко не так просто, как кажется. Не забывай, что Еньо был смертельно пьян, а все-таки размозжил себе череп.
— А что ему еще оставалось?
— Сам размозжил себе череп, — повторил Нягол и выразительно посмотрел на Весо.
— Ты что, стараешься его простить? — нахмурился Весо.
— Простить — вряд ли, а если понять?
Нягол снова как-то странно посмотрел на Весо, а тот, заметив эту перемену, воскликнул:
— К черту этого типа! Важно, что ты уцелел.
Няголу страшно захотелось закурить.
— Я мог описать этого человека. А он отмени ускользнул.
Взгляды их скрестились.
— Да, Весо, — повторил задумчиво Нягол, — описать его, этого люмпена. А теперь поздно.
— Глупости!.. Но, в конце концов, если это так важно для тебя, почему поздно?
— Потому что я совсем не знал его.
— Брось ты эту чепуху!
— Ты раздражен, и это вполне понятно: ведь Еньо наш. В его безумных глазах мы — вероотступники, люди, изменившие идее — как он ее себе представлял. Так-то, брат.
— Все это твои выдумки. Какие идеи могут быть у деклассированного типа?
— Деклассированного, но кем?
— Ясное дело — жизнью.
— Ничуть не ясное. Деклассировала его не жизнь, а время, — и это большая разница, Весо. Он не люмпен жизни, а люмпен идеи. И нам некуда его девать, даже мертвого.
— Будь это так на самом деле, он напал бы на тебя, — заключил Весо с той снисходительностью, какую честолюбиво таят в себе государственные деятели по отношению к людям рангом ниже. Нягол знал эту слабость и прощал ее другу, но сейчас он приподнялся на локтях.
— Ты меня недооцениваешь, но это еще полбеды. Плохо, что ты недооцениваешь людей вроде Еньо.
— Еще чего!
— Вот тебе и чего! Ведь Еньо хотел попасть в Гроздана, председателя хозяйства, с которым они разругались до чертей. Но после первого выстрела впал в транс и уже стрелял куда попало. — Нягол откинулся на спину. — Обрати внимание: это были отдельные, рассеянные выстрелы, он разбил витрину за стойкой… Но увидев меня, Еньо вдруг протрезвел. Теперь слушай внимательно: в меня он стрелял дважды, потому что с первого раза не попал…
— А ты уверен?
— Он хотел меня убить, это я видел по его глазам. — Нягол обтер пересохшие губы. — Спрашивается, почему именно меня, ведь между нами нет ничего общего?
Весо не отвечал, задумавшись о чем-то своем.
— Я тебе скажу, почему. Если оставить в стороне зависть, злобу и алкоголь, в его глазах я тот самый чужак, который в свое время примазался к борьбе, а теперь сумел высоко взлететь и пускает пыль и глаза власти и народу.
— Ты чересчур усложняешь этого Еньо, — возразил Весо, вспоминая разговор с Трифоновым.
— Человек видит сложность окружающих по мере собственной сложности…
— Ладно, пусть будет по-твоему. Выздоравливай, садись и описывай его с головы до пят, а то и до зубов мудрости, которых у него никогда, наверное, не было. Нашел героя нашего времени…
И Нягол снова уловил в его голосе раздраженно-покровительственные нотки. Весо с ним не согласен. По характеру он вообще не любит усложнять окружающий мир, предпочитая даже упрощать его, по врожденной склонности ума и вследствие приобретенного опыта. Сейчас он просто не хочет спорить с больным.
— Еньо не стало, теперь поздно даже иронизировать, — сказал Нягол. — Лучше скажи, что у тебя нового.
— Ничего особенного, работа и