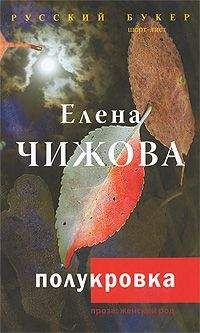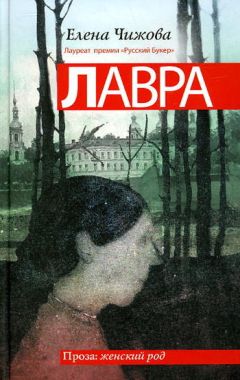Мы встретились на улице Рубинштейна. Так предложил Митя: позвонив, он объяснил, что должен получить справку в паспортном столе, какую, я не спросила. Мне пришлось подождать. У дверей конторы вился народ. Люди входили и выходили. Выходящие держали в пальцах бумажные листы, в которые вчитывались внимательно, словно черпали важные сведения. Похоже, эти сведения все-таки были промежуточными. Не выпуская листов из рук, они переходили дорогу и углублялись в ближайшую подворотню, чтобы вскорости выйти обратно и возвратиться в контору. Замкнутый путь, вытоптанный людскими ногами, походил на муравьиную тропу. Митя вышел одним из них и, потоптавшись, отправился по нахоженной. Из подворотни он явился минут через десять и, ненадолго нырнув в контору, освободился окончательно. Теперь он стоял, озираясь. Я приблизилась. Он заметил с двух шагов. Взгляд, замерший на мне, выражал смутное удивление, словно Митя никак не ожидал увидеть. Удивление сменилось радостью, и, радуясь навстречу, я забыла о нахоженной тропе и о том, что, судя по удивлению, он не помнил о нашей договоренности.
Теперь он, конечно, вспомнил. Складывая лист, полученный на муравьиной тропе, он заговорил о том, что вынужден был рассказать обо всем Сергею выследили, то ли дворничиха, то ли управдом, по крайней мере приходили, таились за дверью, ну, надо же было предупредить, все-таки владелец, - и Сергей попросил возвратить ключи. Вообще-то Сергей сказал, ненадолго, пока не уляжется, но, судя по всему, Митя развел руками, наступает тяжкое время бездомности. Его слова поразили меня. Идя вдоль кромки, я не подымала глаз, стремясь собраться с мыслями. В сравнении с прежней нынешняя бездомность выглядела надуманной: никто не лишал меня крова, под который, ежевечерне минуя вечную лужу, я имела право возвращаться. С другой стороны, эта надуманная, почти что игрушечная бездомность таила в себе неясную угрозу: я не могла уловить. Взгляд цеплялся за выбоины, скользил по краю тротуара. Щадя мою память, он обходил чужие окна, в этот час загоравшиеся тихим вечерним светом. Скрывая боль, обливавшую сердце, я заговорила о справке: поинтересовалась, зачем понадобилось. Поморщившись, Митя ответил, потребовали в отделе кадров, позвонили, попросили зайти и занести. Занятая собой, я не придала значения. Я думала, глупости, фантомная боль, обжегшись о молоко, дую на воду, город большой, что-нибудь да найдется, на мастерской клином не сошелся. "Что-нибудь да найдется", - словно прочитав мои мысли, Митя заговорил о том, что уже предпринял кое-какие шаги, приятель поселился у жены, комната в коммуналке пустует, обещает поговорить с соседкой. Кажется, Митя собрался снять. Меняя тему, я спросила о матери, и, помрачнев, Митя ответил, что на самом деле ничего хорошего: определили рассеянный склероз, нельзя оставлять надолго.
Мы свернули в переулок, тихий и безлюдный. Поток машин обходил стороной: водители выбирали Владимирский или Рубинштейна. Разлившаяся темнота отпугивала редких прохожих. Низкие комнаты, выходящие в переулок, открывались чужому взгляду: никто из обитателей не спешил задернуть. Я подумала, здешним людям, знать не знающим о бездомности, не от кого таиться: сидят за раздернутыми окнами и обсуждают обыденные дела... Единственная машина, поводя огнями, как усиками, медленно въезжала в переулок. Она двигалась осторожно, будто выйдя на новую тропу, нащупывала путь. Нежно касаясь светящихся окон, фары обходили яму. Теперь, обойдя, водитель окончательно сбросил скорость. Не доезжая до Рубинштейна, машина встала. Колеса буксовали на рытвине, которую чуткие усики умудрились проглядеть. Рев, рвавшийся из-под капота, отдался эхом. Словно наткнувшись на опасное, усики опали мгновенно. Не включая фар, водитель дал задний ход и двинулся к Владимирскому. Остановившись, я провожала глазами.
Если бы не машина... нет, сама я бы не вспомнила. Что-то соединялось во мне, вставало на место, словно я, потерявшая важный поворот, теперь выбиралась из западни. Выпустив усики, машина остановилась, пережидая. Вдоль по Владимирскому, мешая влиться, двигался сплошной поток. Я замерла, вслушиваясь. Медленный звук поднимался в сердце, дрожал, как голос на оконных стеклах. Из него, как из глубины, проступало Митино слово соответствие, то, которое, оглядываясь назад, можно проследить по десятилетиям. В этом слове таилась мучительная безнадежность - правило замкнутого круга, из которого никто не умеет выбраться. Холод проникал в мое сердце, заковывал в ржавые латы. Теперь я видела ясно: закон соответствия, выведенный Митей для всей страны, касался и меня. Моя колея ложилась рядом с главной. Они шли параллельно, но моя была узкой. Я знала, все начинается сначала, так, как было прежде, когда, скитаясь с квартиры на квартиру, мы с мужем дожидались жилья. Рано или поздно, договорившись с приятелем, Митя снимет новую комнату, в которой закончится наша, на этот раз игрушечная, бездомность. "Все уже было", - я сказала тихо, про себя. За преодоленной бездомностью, как пустырь, застроенный гигантским перевернутым небоскребом, с законной неизбежностью открывалось время убывающей любви. Призрак мертвого дома шел за мной по пятам - по мусору, по пустырю, поросшему вечнозеленым будыльем...
Я очнулась, услышав голос. Страшное исчезло. Мы стояли в пустынном переулке, из которого, бесшумно пятясь, выезжала заблудшая машина. Сонливость, последнее время терзавшая меня, теперь уходила. Глядя вслед спасенной машине, я знала - теперь я вступаю на прежнюю, узкую колею: мысль о бездомности толкнула бессонный маятник, и первым ударом он качнулся в такт убывающей любви. Господи, больше всего на свете я хотела уберечься, вырваться, спастись. Жизнь в покинутой мастерской становилась беспощадно вымышленной, словно окончательно ушла за грань, сквозь которую, взращенные Митиной неповоротливой фантазией, никак не тянувшей на бестселлер, ходили взад и вперед наши убогие персонажи.
Я просыпалась, но в этой последней фазе сна, они, надевшие обычные личины, еще стояли перед моими глазами, но я сама становилась недосягаемой, потому что знала о своем пробуждении. "Вот, смотри, - рукой я показывала на окна, за которыми, положив локти на вечерние столы, сидели тихие люди. Им, сидящим на дне, не было ни малейшего дела до времени. Митино десятилетнее разделение катилось выше их голов, как большая морская волна. - Зачем выдумывать невесть кого, если вот - все перед тобою, жизнь не хуже твоей и моей... - Я подступала, возвышая голос: - Никогда ты не задумывался над тем, что можно жить нормальной жизнью, но я - я больше не желаю скитаться. Твой отъезд бессмысленная выдумка. Ты говоришь себе - там все будет по-настоящему, по-другому, но так не бывает. Ты не умеешь, как люди, потому что ты сам не настоящий. То, что ты ненавидишь, я ненавижу не меньше, но никогда - я не уеду с тобой". Митя слушал. Во мне не было жалости, ярость гнала меня вперед, я думала, если не сейчас, дальше будет страшнее, так, как было раньше, как бывает всегда. Словно Митин аспирант, поймавший меня на набережной, я каялась, признаваясь в том, что все - выдумки, нет ни партийной дамы, ни ловеласа, они - мертвые куски мяса, которые я, измученный и бессонный сторож, бросала и бросала в его клетку. "Подлый помет, для тебя все - подлый! Владыка Никодим, ты не стоишь его пальца, а он - он сын секретаря обкома, - я задыхалась. - Ты - прорва, тебя не насытить, ты ненавидишь всех, даже тех, которые, как я, и душой, и телом служат твоей ненависти". Марионеткой, сорвавшейся с крюка, я неслась и неслась воодушевленно, срываясь со спирали, на каждом витке которой никак не кончалась моя, бессмысленно разыгранная, жизнь. Она была бесконечной, дурной и мучительной. Я знала одно: остановить вращение, вырвать из волн огромную винтовую воронку, в которую кто-то чужой и полный ненависти втягивает и прошлое, и нынешнее, и будущее. В приливе яростных сил я желала распрямить время, изогнутое в спираль: сразиться и победить. Или оно, или я. Задыхаясь, я подняла голову.
Небо, укрытое облаками, отбрасывало городское сияние, возвращало земле. Росчерки чутких фар, трогающих пространство, не достигали облаков. Там, выше желтого, электрического зарева, стояла жуткая пустота, похожая на пространство. Оно мерилось годами, десятилетиями, столетиями, ходило замкнутым ведьминым кругом, не приближаясь к Земле. Цепи облаков, не видные за электрическим маревом, восходили над городом, лежащим в безвидности и пустоте. Словно на плечах друг у друга, облака уходили ввысь, чтобы, набрякнув, опуститься ниже, опростаться и снова встать в цепь. Небеса, общим числом до семи, отягощенные набрякшей цепью, качались, наращивая амплитуду. Время, ползущее столетиями, походило на огромную гусеницу, состоящую из движущихся фаланг: они поднимались одна за одной, выгибались десятилетиями, и каждой фаланге неотличимо соответствовала другая, готовая изогнуться на новом витке. Закрыв глаза, я следила за тем, как огромное, членистое тело, утыканное короткими волосяными отростками, движется и подминает под себя...