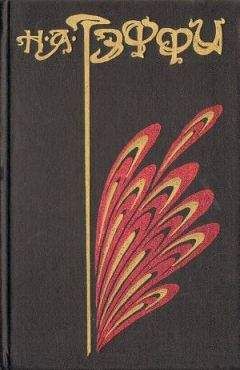Подплывали к карпу и другие мудрые рыбы и слушали, и понимали, и застыли от восторга и трепета.
А когда кончил старец говорить и, воздев руки, благословил небо и землю, вышли из толпы два отрока и, войдя в воду, погрузили в нее длинную веревочную сеть. И когда вынули ее снова бились в петлях ее, сверкая чешуей, серебряные рыбки.
А старец снова воздел руки, благословил улов и велел разделить всем поровну.
Много тысяч раз зеленела вода от высокого солнца и чернела от солнца заходящего, и вот снова выплыл старый карп на поверхность воды.
Выплыл он потому, что в один из вечеров не зачернила вода, а засветилась новым, белым светом, ярче лунного и белее солнечного.
Выплыл и удивился.
Целый ряд ярких белых солнц украшал берега. И, радуясь их радостному блеску, суетились веселые люди.
А у самой воды стоял высокий бритый господин, держал в каждой руке по проволоке и говорил жадно внимавшей толпе о великом счастье, открытом для всего мира. О том, что соединением этих двух проволок можно согреть, насытить, вылечить и передвинуть с одного места на другое каждого, кто этого пожелает, и можно дать ему и свет, и музыку, и зрелища, – и все только одним соединением этих двух проволок.
– Теперь они перестанут есть нас, – подумал карп и, с облегчением раздув жабры, подплыл ближе.
Вдохновенный господин заговорил что-то о спорте. Потом он взглянул на воду и сказал:
– Смотрите, сколько у нас сейчас будет рыбы!
Он быстро нагнулся и, опустив проволоку в воду, соединил ее концы.
Старого карпа далеко откинуло силой удара. Когда он пришел в себя, было снова тихо, и тихо плавали, перевернувшись на спину, мертвые рыбы.
* * *
Что-то булькнуло высоко наверху и, темнея, опустилось на дно. Старый карп вздрогнул и глубже зарылся в бархатистую тину.
Он стал совсем стар и нелюбопытен.
Он знал одно: что бы там, наверху, ни придумали, все равно его съедят.
«Представители администрации в предупреждение паники будут „заблаговременно успокаивать темный народ“».
И вот сегодня, в восемь часов утра, пришел к нам в кухню старший дворник и сказал:
– Ну, слыхали чать? Нонеча капут. Светопреставление будет.
– Это с чего же? – удивились кухонные бабы.
– Эх, вы, дуры! Газет не читаете! Затмение солнца будет. На луну, стало быть, напрет, и – капут. Все вдребезги. Ждите последнего часу!
Говорил он вяло, без огня и убеждения, как человек, исполняющий возложенную на него скучную обязанность.
– Да врешь ты! – сомневались бабы.
– Уж, коли говорю, стало – так! Наше дело сторона, зашел только упредить, чтобы, значит, не беспокоились.
Вздохнул и ушел.
Действительно, долг культуртрегера штука тяжелая.
* * *
Что бы ни писали астрономы, а главный пункт наблюдения солнечного затмения оказался на Невском проспекте.
Смотрели на солнце два школьника и три дворника. Остальные смотрели на них и друг на друга и говорят, что впечатление получили потрясающее.
– Вы представить себе не можете! – рассказывал потом один очевидец. – Был такой момент, когда все рожи почему-то стали желтыми! Это… это не забываемо!
– Были на затмении? – спрашивает знакомая дама. – Я была. Прямо неслыханное зрелище! Вообразите, эта дура Абрамсон напялила на себя розовую шляпу с лиловым пером. А? Каково? С ее-то рожей! Нос торчит, перо висит. Я говорю Лизочке: «Посмотри на дуру, нос висит перо торчит!» Удивительное явление природы, un spectacle de la nature! Ho лиловое перо, это, как хотите… Воображаю, что делалось в Пулковской обсерватории!
– Видели затмение? – спрашивает другая. – Это нечто возмутительное! Галкина с Белкиным на моторе ездила, а муж, дурак, смотрит и не видит. Она ему пенсне закоптила, чтоб ему удобнее было на солнце смотреть. Наверное, и коптила-то вместе с Белкиным. Возмутительно!
* * *
Мне с астрономическими явлениями вообще не везет.
В этом году я не захотела испортить небесного праздника и просидела дома с опущенными шторами, спиной к окну.
И, увидя мое смирение, солнце затмилось по всем правилам.
Бог с ним!
Раз только хотела я снять с себя астрозаклятье и поехала к Байдарским воротам встречать восход солнца.
Погода была ясная, – почему бы мне и не увидать зари?
Народу понаехало много. Большинство отправилось через лес на гору, откуда вид был еще красивее. Часть осталась внизу.
Сначала осталась внизу и я, но потом подумала:
– Глупо! Раз-то в жизни приехала сюда посмотреть восход солнца, – и вдруг ленюсь на горку подняться. Нужно пойти.
Пошла. Шла, шла, подъем крутой, темно, жутко. Остановилась и подумала:
– Ну, чего я дуру валяю? Отлично можно было внизу все видеть. Устану без толку, и все удовольствие пропадет. Лучше вернусь.
Стала спускаться. Почти дошла, как вдруг стыдно стало:
– Ведь пошли же люди, – значит, действительно есть смысл подняться. Даром кому охота лезть? Нужно взять себя в руки.
Пошла опять назад. Поднялась до прежнего места. Присела отдохнуть и подумала:
– От добра не ищи добра. Пойду вниз и увижу все, что нужно.
Охота тоже лезть, язык высунув, когда тут, наверное, то же самое.
Пошла опять вниз, не дошла, одумалась, стала подниматься, упала духом, спустилась, взяла себя в руки, полезла, махнула на все рукой, стала спускаться, собрала последние силы духа и тела, полезла наверх и вдруг остановилась: толпа туристов бойко и весело сбегала вниз.
– Феерично! Феерично! – пищали женские голоса.
– Волшебно! Волшебно! – гудели мужские.
– Ага! – злорадно встретила я их. – Теперь сами вниз бежите? Небось, там ничего и не видно. Ха-ха!
Они даже приостановились:
– А что же нам там смотреть? Ведь солнце уж давно взошло!
– Да?.. Взошло? – растерялась я. – Впрочем… конечно… Я только хотела сказать, что внизу было гораздо лучше видно… О! Гораздо лучше!
А когда они ушли, я села на камень и немножко поплакала.
Я так устала!
Мы сидели на каменной скамеечке у обрыва Фьеволе и смотрели на панораму вечерней Флоренции.
Медленно таяло розовое солнце, медленно спускались голубые тени на фиолетовые холмы, с недвижными на них, как семисвечники алтарей, тонкими, прямыми кипарисами.
Это те самые холмы, которые полюбил Леонардо в окне Джоконды.
И так же, засыпая, улыбалась Флоренция, как тогда ему.
Мы только что сделали большую прогулку, осмотрели раскопанный недавно античный театр, посетили францисканский монастырь, где юный красавец-монах, опоясанный веревкой, играл на органе Вагнера. Его зовут очень сладко, этого монаха, – фра Карамелло. Он очень талантлив.
Наши русские снобы бегают смотреть и слушать Карамелло, причем для приличия приходится делать пожертвования на монастырь.
– Он ходит, как Дункан, и играет, как святая Цецилия! – говорят про Карамелло.
Теперь мы сидим на каменной скамейке, прозванной «англичанкин диван». Скамейку соорудила на собственные средства влюбившаяся в пейзаж англичанка – отсюда и название.
Отдыхаем. Купили у грязной девчонки, с всклокоченными, как шерсть бурой козы, волосами, персиков, несколько веток винограда. Виноград тяжелый, пряный, будто медом намазанный. Персики такие розовые, пушистые, что перед тем, как откусишь, сначала невольно погладишь их твердые щечки.
Группа итальянских бездельников серьезно и внимательно смотрит на нас.
Точно дело делают.
Иной устанет глазеть, – пойдет отдохнет немножко, и снова смотрит.
Пришел толстый старик с гитарой, прислонился к каменной ограде, закинул голову и запел на два голоса по очереди. Получалось впечатление, будто поют двое: один куплет – страстный мужской голос, другой – сладкий, женский.
Наш спутник, молодой итальянец с томными глазами, оживился:
– Это наша новая канцонетта, получившая приз в этом году. У нас каждый год устраиваются конкурсы. Послушайте, как красиво!
Старик пел хорошо. Даже не понимая слов, можно было их чувствовать, – так красиво умолял мужской голос, и так сладко мучился женский.
– Он поет об ее золотых волосах, – переводил наш итальянец. – «Твои золотые волосы, как золотые перья на крыльях ангелов»…
Мы наслаждались, любовались, итальянец переводил отрывки нужной песни и, полузакрыв томные глаза, смотрел на розово-голубой, вечерний город.
– Firenze! Mia Firenze!
Как он любил свой город-цветок.
* * *
Тут же, на Фьезоле, сидел с нами и Васюка Пономарев.
Васюка был наш новгородский, купеческий сын, знали мы его почти с детства, когда он был толстощеким гимназистом, съевшим потихоньку – история трагическая – целый именинный пирог, который его мать испекла на двадцать поздравителей.