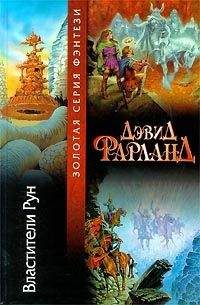- А, Флегонт Михайлыч! Здравствуйте! Очень рад вас видеть.
Капитан молчал.
- Садитесь, пожалуйста, - присовокупил Калинович, показывая на стул.
Капитан сел и продолжал молчать. Калинович поместился невдалеке от него.
- Где это вы были? - начал он дружелюбным тоном.
- Так-с, у знакомых, - отвечал капитан.
- Это жаль, тем более, что сегодня был знаменательный для всех нас день: я сделал предложение Настасье Петровне и получил согласие.
Капитан выпучил глаза.
- Вы изволили получить согласие? - произнес он, сам не зная, что говорит.
- Да, - отвечал Калинович, - искали потом вас, но не нашли.
У капитана то белые, то красные пятна начали выходить на лице.
- В Петербург, стало быть, не изволите ехать? - спросил он, с трудом переводя дыхание.
При этом вопросе Калинович вспыхнул, однако отвечал довольно равнодушным тоном:
- Нет, в Петербург я еду месяца на три. Что делать?.. Как это ни грустно, но, по моим литературным делам, необходимо.
Капитан бессмысленно, но пристально посмотрел ему в лицо.
- Теперь по крайней мере, - продолжал Калинович, - я еду женихом и надеюсь, что зажму рот здешним сплетникам, а близких Настасье Петровне людей успокою.
Капитан начал теряться.
- Что я люблю Настасью Петровну - этого никогда я не скрывал, и не было тому причины, потому, что всегда имел честные намерения, хоть капитан и понимал меня, может быть, иначе, - присовокупил Калинович.
Капитан был окончательно уничтожен. По щекам его текли уже слезы.
- Я очень рад, - проговорил он, протягивая Калиновичу руку, которую тот с чувством пожал.
Затем последовала немая и довольно длинная сцена, в продолжение которой капитан еще раз, протягивая руку, проговорил: "Я очень рад!", а потом встал и начал расшаркиваться. Калинович проводил его до дверей и, возвратившись в спальню, бросился в постель, схватил себя за голову и воскликнул: "Господи, неужели в жизни, на каждом шагу, надобно лгать и делать подлости?"
IX
Чем ближе подходило время отъезда, тем тошней становилось Калиновичу, и так как цену людям, истинно нас любящим, мы по большей части узнаем в то время, когда их теряем, то, не говоря уже о голосе совести, который не умолкал ни перед какими доводами рассудка, привязанность к Настеньке как бы росла в нем с каждым часом более и более: никогда еще не казалась она ему так мила, и одна мысль покинуть ее, и покинуть, может быть, навсегда, заставляла его сердце обливаться кровью. Но, все это затаив на душе, Калинович по наружности казался еще холоднее и мрачнее. Он чувствовал, что если Настенька хоть раз перед ним расплачется и разгрустится, то вся решительность его пропадет; но она не плакала: с инстинктом любви, понимая, как тяжело было милому человеку расстаться с ней, она не хотела его мучить еще более и старалась быть спокойною; но только заняться уж ничем не могла и по целым часам сидела, сложив руки и уставя глаза на один предмет. Зато неусыпно и бодро принялась хлопотать Палагея Евграфовна: она своими руками перемыла, перегладила все белье Калиновичу, заново переделала его перину, выстегала ему новое одеяло и предусмотрела даже сшить особый мешочек для мыла и полотенца. О подорожниках она задумала еще дня за два и нарочно послала Терку за цыплятами для паштета к знакомой мещанке Спиридоновне; но тот сходил поближе, к другой, и принес таких, что она, не утерпев, бросила ему живым петухом в рожу. Петр Михайлыч, в сопровождении капитана, тоже все возился с извозчиками и выходил из себя.
- То есть, этакой плут этот русский народец, вообразить себе невозможно! - говорил он. - Прихожу я к этому подлецу, Афоньке Беспалому: "Что до Москвы?.." - "Пятьдесят серебром!.." - "Как, шельма: пятьдесят серебром? В двадцать четвертом году ты меня же за пятьдесят ассигнациями с женой возил..." Смеется. "Тогда-ста, говорит, четверик овса по десяти копеек покупали, да тарантас, может, не проходный был". - "Ладно, говорю, что ты за тарантас кладешь?" - "Десять целковых". - "Ладно, говорю, бери за тарантас десять, а лошадей мы возьмем почтовых". - "Не хочу, говорит, почто работу из рук отпускать?" - "Так вот же тебе!.." - говорю, и пошел к Никите Сапожникову. Не тут-то было: эта нагайская кобыла, супруга этого шельмы Афоньки, огородами туда уж марш... Прихожу - "Ни копейки меньше"! - А? Каков народец?.. Немец этого не сделает... нет... никогда!
- Дать им, что просят, - отвечал Калинович, которого все эти хлопоты о нем заставляли еще более терзаться.
- Не дам, сударь! - возразил запальчиво Петр Михайлыч, как бы теряя в этом случае половину своего состояния. - Сделайте милость, братец, - отнесся он к капитану и послал его к какому-то Дмитрию Григорьичу Хлестанову, который говорил ему о каком-то купце, едущем в Москву. Капитан сходил с удовольствием и действительно приискал товарища купца, что сделало дорогу гораздо дешевле, и Петр Михайлыч успокоился.
Накануне своего отъезда Калинович совершенно переселился с своей квартиры и должен был ночевать у Годневых. Вечером Настенька в первый еще раз, пользуясь правом невесты, села около него и, положив ему голову на плечо, взяла его за руку. Калинович не в состоянии был долее выдержать своей роли.
- Послушай, - начал он, привлекая ее к себе и целуя, - просидим сегодня ночь; приходи ко мне...
- Хорошо, когда?.. Как все заснут?
- Да; я желаю с тобой быть.
- Хорошо, и я желаю, - отвечала Настенька, - это в последний раз!.. прибавила она таким грустным голосом, что у Калиновича сердце заныло.
"Боже мой, боже мой! И я покидаю это кроткое существо!" - подумал он и поскорей встал и отошел.
На другой день предполагалось встать рано, и потому после ужина, все тотчас же разошлись. Калинович положен был в зале. Оставшись один, он погасил было свечку и лег, но с первой же минуты овладело им беспокойное нетерпение: с напряженным вниманием стал он прислушиваться, что происходило в соседних комнатах. Прошло полчаса; Петр Михайлыч все еще покашливал, и раздавались по коридору досадные шаги Палагеи Евграфовны. Наконец, пропала на лугу полоса света, отражавшаяся из окна кабинетика, где спал старик, и среди глубокого молчания только мерно отщелкивал маятник стенных часов. Но вот что-то стукнуло... Калинович вскочил и взглянул в гостиную, откуда должна была прийти Настенька. Там было пусто и темно, так что ему сделалось как будто немного страшно, и он снова лег; но кровь волновалась и, казалось, каждый нерв чувствовал и слушал. Опять что-то стукнуло... Нет, это крыса возится с костью. "Неужели она не придет?" - мучительно подумал он, садясь в изнеможении. Однако опять шелест... "Ты здесь?" - послышался шепот. Калинович вздрогнул, и в полумраке к нему уж склонилась, в белом спальном капоте, с распущенною косою Настенька... Все было забыто: одною предстоявшая ей страшная разлука, а другим - и его честолюбие и бесчеловечное намерение... Блаженству, казалось, не будет конца... Но время, однако, шло, и начинало рассветать. Все предметы стали обозначаться ясней и ясней. На дворе закопошились: кухарка выгнала за ворота корову, послышав, что пастух трубит; Терка, согнанный Палагеей Евграфовной с печки, проехал за водой.
- Прощай! - проговорила, наконец, Настенька.
- Прощай! - сказал Калинович.
Простившись еще раз слабым поцелуем, они расстались, и оба заснули, забыв грядущую разлуку. Напрасно проснувшийся потом Петр Михайлыч спрашивал Палагею Евграфовну:
- Что, спят еще?
- Спят, - отвечала та.
- Экой беспечный народ, - говорил старик и, не утерпев, пошел и поднял Калиновича. Настенька тоже вскоре встала и вышла. Она была бледна и с какими-то томными и слабыми глазами. Здороваясь с Калиновичем, она немного вспыхнула.
Последние тяжелые сборы протянулись, как водится, далеко за полдень: пока еще был привезен тарантас, потом приведены лошади, и, наконец, сам Афонька Беспалый, в дубленом полушубке, перепачканном в овсяной пыли и дегтю, неторопливо заложил их и, облокотившись на запряг, стал флегматически смотреть, как Терка, под надзором капитана, стал вытаскивать и укладывать вещи. Петр Михайлыч, воспользовавшись этим временем, позвал таинственным кивком головы Калиновича в кабинет.
- Есть у меня к вам, Яков Васильич, некоторая просьбица, - начал он каким-то несмелым голосом. - Это вот-с, - продолжал он, вынимая из шифоньерки довольно толстую тетрадь, - мои стихотворные грехи. Тут есть элегии, оды небольшие, в эротическом, наконец, роде. Нельзя ли вам из этого хлама что-нибудь сунуть в какой-нибудь журналец и напечатать? А мне бы это на старости лет было очень приятно!
Калинович мысленно улыбнулся этому простодушному желанию.
- Отчего же?.. С большим удовольствием, - отвечал он.
- Сделайте милость, - подхватил старик, - только Настеньке не говорите; а то она смеяться станет, - шепнул он, выходя.
В зале они нашли приказничиху, которая, как ни мало была довольна своим постояльцем, но все-таки считала себя обязанною проводить его. Пришел также товарищ купец, в аккуратно подпоясанном тулупе, в котором он уж достаточно согрелся. Палагея Евграфовна расставила завтрак по крайней мере на двух столах; но Калинович ничего почти не ел, прочие тоже, и одна только приказничиха, выпив рюмки три водки, съела два огромных куска пирога и, проговорив: "Как это бесподобно!", - так взглянула на маринованную рыбу, что, кажется, если б не совестно было, так она и ее бы всю съела.