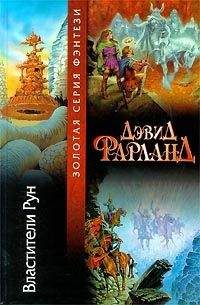- Закусите! - попотчевал Петр Михайлыч купца.
- Благодарим покорно: закушено грешным делом! - отвечал тот, дохнув луком.
- Ну, так, значит, поприсядемте! - продолжал Петр Михайлыч, и на глазах его навернулись слезы. Все сели, не исключая и торчавшего в дверях Терки, которому приказала это сделать Палагея Евграфовна.
- Ну! - снова начал Петр Михайлыч, вставая; потом, помолившись и пробормотав еще раз: "Ну", - обнял и поцеловал Калиновича. Настенька тоже обняла его. Она не плакала...
- Прощайте, желаю благополучного пути туда и обратно, - проговорил с какими-то гримасами капитан.
У Палагеи Евграфовны были красные, наплаканные пятна под глазами; даже Терка с каким-то чувством поймал и поцеловал руку Калиновича, а разрумянившаяся от водки приказничиха поцеловалась с ним три раза. Все вышли потом проводить на крыльцо.
- С богом! - произнес купец, крестясь и усевшись. Афонька тронул. Во все время Калинович не проговорил ни слова; но выражение лица его было чисто мученическое: обернувшись назад, он все еще видел в окне бледную и печальную Настеньку. Дома Годневых стало, наконец, не видать. Миновалось и училище, куда он, наводя такой страх на подчиненных, ходил каждый день. Серебристые главы собора блестели на солнце так ярко и красиво, что будто они никогда так не блестели. Остались сзади и присутственные места, на крылечке которых спокойно сидели два сторожа, и направо пошел вал, с видневшеюся на нем беседкой, где Калинович в первый раз вызвал Настеньку на признание в любви. Как он был счастлив и доволен в этот вечер! А теперь бежал этого счастья, чтоб искать другого... какого - бог знает! В Солдатской слободке, на поросшем травой тротуаре, коза почтмейстера, от которой он пил молоко, щипала траву. В остроге сквозь железные решетки выглядывали бритые, с бледными, изнуренными лицами головы арестантов, а там показалось и кладбище, где как бы нарочно и тотчас же кинулась в глаза серая плита над могилой матери Настеньки... "Как все это знакомо, и все - прощай! Увидится ли когда-нибудь все это опять, или эти два года, с их местами и людьми, минуют навсегда, как минует сон, оставив в душе только неизгладимое воспоминание?.." Невыносимая тоска овладела при этой мысли моим героем; он не мог уж более владеть собой и, уткнув лицо в подушку, заплакал!
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
Два дня уже тащился на сдаточных знакомый нам тарантас по тракту к Москве. Калинович почти не подымал головы от подушки. Купец тоже больше молчал и с каким-то упорством смотрел вдаль; но что его там занимало - богу известно. В Серповихе, станций за несколько от Москвы, у них ямщиком очутилась баба, в мужицких только рукавицах и шапке, чтоб не очень уж признавали и забижали на дороге. Купец заметил было ей:
- Страмота, тетка, и ехать-то с тобой, хоть бы к ноче дело-то шло, так все бы словно поскладнее было.
- Не все, батька, дело-то делается ночью; важивала я вашу братью и днем. Не ты первой!.. - возразила баба и благополучнейшим манером доставила их на станцию, где встретила их толпа ямщиков.
- А, чертова перечница, опять в извоз пустилась! - заметил один из них. - Хорошо ли она вам, господа, угождала? А то ведь мы сейчас с нее спросим, прибавил он, обращаясь к седокам.
- Ты поди девкам-то своим угождай и спрашивай с них, а уж мужчинке тебе против меня не угодить! - возразила баба и молодцевато соскочила с передка.
Когда новые лошади были заложены, на беседку влез длинновязый парень, с сережкой в ухе, в кафтане с прорехами и в валяных сапогах, хоть мокреть была страшная; парень из дворовых, недавно прогнанный с почтовой станции и для большего форса все еще ездивший с колокольчиком. В отношении лошадей он был каторга; как подобрал вожжи, так и начал распоряжаться.
- Н-н-у! - крикнул он и вытянул всю тройку плетью.
Коренная вздумала было схитрить и села в хомуте.
- О черт! Дьявол! - проговорил извозчик и начал ее хлестать не переставая.
Лошадь, наконец, заскакала. Ему и это не понравилось.
- О проклятая! Заскакала! - промычал он и передернул вожжи, а сам все продолжал хлестать. Тарантас, то уходя, то выскакивая из рытвин, немилосердно тряс. У Калиновича, как ни поглощен он был своими грустными мыслями, закололо, наконец, бока.
- Что ж ты сломя голову скачешь? - проговорил он.
- Сердит я ездить-то, - отвечал извозчик, потом, вскрикнув: "О вислоухие!" - неизвестно за что, дернул вожжу от левой пристяжной, так что та замотала от боли головой.
- Тише, говорят тебе! - повторил Калинович.
- Ничего! Сидите только, не рассыплю! - возразил извозчик и, опять крикнув: "Ну, вислоухие!", понесся марш-марш. Купца, несмотря на его тяжеловесность, тоже притряхивало, но ему, кажется, это было ничего и даже несколько приятно.
- Лошадь ведь у них вся на ногу разбитая: коли он вначале ее не разгорячит, так хуже, на полдороге встанет, - объяснил он Калиновичу.
- Не встанет у меня! Не такое мое сердце; нынче в лихорадке лежал, так еще сердитее стал, - ответил на это ямщик, повертывая и показывая свое всплошь желтое лицо и желтые белки.
Станции, таким образом, часа через два как не бывало. Въехав в селение, извозчик на всем маху повернул к избе, которая была побольше и понарядней других. Там зашумаркали; пробежал мальчишка на другой конец деревни. В окно выглянула баба. Стоявший у ворот мужик, ямщичий староста, снял шляпу и улыбался.
- Кто очередной? - спросил извозчик, слезая с передка.
- Старик, - отвечал староста.
- Наряжай, любезный, наряжай, нечего тут проклажаться! - проговорил купец.
- Наряжено, хозяин, наряжено, - отозвался староста и, обходя сзади тарантас, проговорил: "Московский, знать... проходной, видно".
- Проходной, до Москвы, - отвечал извозчик. - Тетка Арина! Дай-ка огонька, - прибавил он глядевшей из окна бабе и, вынув из-за пазухи засаленный кисетишко и коротенькую трубчонку, набил ее махоркой.
Баба скрылась и через минуту высунула из окна обе руки, придерживая в них горящий уголь, но не вытерпела и кинула его на землю.
- Ой, чтобы те, и с огнем-то твоим... Все рученьки изожгла, проговорила она.
- Больно уж хлипка, - как на том-то свете станешь терпеть, как в аду-то припекать начнут? - сказал извозчик, поднимая уголь и закуривая трубку.
- Угорели же, паря, - говорил староста, осматривая тяжело дышавшую тройку.
Извозчик вместо ответа подошел к левой пристяжной, более других вспотевшей, и, проговорив: "Ну, запыхалась, проклятая!", схватил ее за морду и непременно заставил счихнуть, а потом, не выпуская трубки изо рта, стал раскладывать.
- Что ж, любезный, скоро ли будет? Аль не сегодня надо, а завтра? отнесся к старосте купец.
- Коли хошь, так и завтра, - отвечал с полуулыбкой староста.
- А деньги не хошь завтра? - возразил купец с ожесточением.
В это время подошел мужик с ребенком на руках.
- Пошто деньги завтра? Деньги надо сегодня, - вмешался он.
- То-то, деньги сегодня! Деньги вы брать охочи, - проговорил купец, сурово взглянув на него.
- Сейчас, хозяин, сейчас! Не торопись больно: смелешь, так опять приедешь, - успокаивал его староста, и сейчас это началось с того, что старуха-баба притащила в охапке хомут и узду, потом мальчишка лет пятнадцати привел за челку мышиного цвета лошаденку: оказалось, что она должна была быть коренная. Надев на нее узду и хомут, он начал, упершись коленками в клещи и побагровев до ушей, натягивать супонь, но оборвался и полетел навзничь.
- Смотри, паря, каменья-то не ушиби, - заметил ему все еще стоявший около мужик с ребенком.
Парень окрысился.
- Поди ты к дьяволу! Стал тоже тут с пострелом-то своим! - проговорил он и, плюнув на руки, опять стал натягивать супонь.
Одна из пристяжных пришла сама. Дворовый ямщик, как бы сжалившись над ней, положил ее постромки на вальки и, ударив ее по спине, чтоб она их вытянула, проговорил: "Ладно! Идет!" У дальней избы баба, принесшая хомут, подняла с каким-то мужиком страшную брань за вожжи. Другую пристяжную привел, наконец, сам извозчик, седенький, сгорбленный старичишка, и принялся ее припутывать. Между тем старый извозчик, в ожидании на водку, стоял уже без шапки и обратился сначала к купцу.
- Мелких, любезный, нет, - отвечал тот равнодушнейшим тоном.
- И мелких не стало, - повторил извозчик, почесывая в голове, купечество тоже, шаромыжники! - прибавил он почти вслух, обходя тарантас и обращаясь к Калиновичу. Тот бросил ему с досадой гривенник. Вообще вся эта сцена начала становиться невыносима для него, и по преимуществу возмущал его своим неподвижным, кирпичного цвета лицом и своей аляповатой фигурой купец. Ему казалось, что этому болвану внутри его ничего не мешает жить на свете и копить деньгу. За десять целковых он готов, вероятно, бросить десять любовниц, и уж, конечно, скорей осине, чем ему, можно было растолковать, что в этом случае человек должен страдать. "Сколько жизненных случаев, - думал Калинович, - где простой человек перешагивает как соломинку, тогда как мы, благодаря нашему развитию, нашей рефлекции, берем как крепость. Тонкие наслаждения, говорят, нам даны, боже мой! Кто бы за эту тонину согласился платить такими чересчур уж не тонкими страданьями, которые гложут теперь мое сердце!" На последней мысли он крикнул сердито: