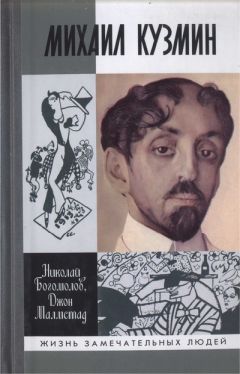— Как, Владимир Генрихович?
— Он сам. Видели? молоко со сливками!
— Видеть-то я его видела, но вы — не жена ему, я его жену знаю.
— Кто, я — не жена? я тратилась, десять лет ждала — и я не жена? Что же я, мертвая, по-вашему?
— Я его жену хорошо знаю, и знаю, что он с нею по-настоящему обвенчан, так та на вас нисколько не похожа.
Пелагея вскочила со стула и, выйдя на середину комнаты, обратилась почему-то прямо к Матвею Петровичу, словно решив, что с Ольгой Семеновной не стоит разговаривать:
— Посудите сами, господин, хорошо это от живой жены на другой жениться? По голове гладить за это? А?
— Какие дела! — произнес тот, не совсем, очевидно, понимая, в чем дело.
— Да уж такие дела, что не подай Бог. За такие дела нужно еще не так судить!
Верейская словно что-то сообразила.
— Постойте, так, значит, ваш муж арестован как двоеженец?
— Ну да.
— А по политическим делам?
— Фа! велика политика — двух дур обмануть!
— И обыска никакого не было?
— Чего же искать, когда обе налицо?
— Значит, все это было напрасно! — горестно воскликнула Ольга Семеновна, разводя руками. Пелагея в недоумении на нее посмотрела.
— Т. е. как это напрасно?
— Я совсем не о том, о чем вы думаете.
— Ну, ну. Ах какая голова! Я совсем и забыла, что со мною еще человек пришел.
— Где же он?
— На лестнице остался.
— Почему же он сюда не зашел? и кого ему нужно? — Вот ее нужно, — ответила Пелагея, указывая на Валентину, — а на лестнице, что же! Пустяки, он человек молодой. Если позволите, я позову его.
— Пожалуйста, если ему нужно.
— Кто же бы это мог быть? — проговорила вполголоса Устинья, переходя к Валентине и смотря на дверь передней, куда скрылась первая жена Тидемана.
В дверь как-то не вошел, а вдвинулся Лосев, без шапки, со спустившимися на лоб всклокоченными волосами. Валентина, словно почувствовав его появление, обернулась к порогу, но тотчас, слегка вскрикнув, отвернулась, закрыв лицо руками. Устинья поспешно обняла ее за плечи, ничего не говоря.
— Вы хотели что-то спешное сообщить Валентине Павловне. Мы можем оставить вас вдвоем, или, впрочем, лучше вы пойдите в кабинет, так как здесь больной и его нельзя тревожить, — сказала Ольга Семеновна к Лосеву.
Тот, не подымая глаз, но всем корпусом обернувшись к Валентине, начал сбивчиво, но совершенно внятно и отчетливо:
— Ничего… я могу при всех, хоть на площади. Валентина Павловна!
Та вздрогнула и еще плотнее прижала руки к лицу.
— Валентина Павловна, вы можете считать меня злодеем, убийцей. Я и действительно, если фактически не убил г-на Миусова, то твердо имел это намерение, следовательно, в душе выхожу все равно убийцею. Я сделал это из любви к вам, чтобы вы были счастливы, потому что я знаю, что, не будь Миусова, вы были бы счастливы. И в тот вечер, помните, когда я у вас спрашивал, вы мне дали ясное согласие. Можете ли вы теперь сомневаться в моей любви? Идемте, Валентина Павловна, протяните мне руку! Если она преступна, то только из-за любви к вам.
— Я убила Павлушу, я его послала! — вдруг сказала Люба, не подымая головы, и снова затихла.
— Валентина Павловна, я жду! — повторил Лосев, и в его голосе была какая-то сухость и самоуверенность, как у человека, который вдруг все теряет. Валентина отвела руки от лица, пристально посмотрела на Евгения Алексеевича и как-то странно спокойно произнесла:
— Пошел вон, гадина!
И снова закрылась. Пелагея где-то зачмокала языком:
— Ай, ай, какой скандал!
Лосев пожал плечами и усмехнулся, хотя страшно побледнел. Потом, как-то по-приказчичьи раскланявшись, обратился к присутствующим:
— Господа, я в преступлении сознался, вы можете звать полицию! — Конечно, позвать полицию! — начал было Матвей Петрович, но Ольга Семеновна шепнула ему «не стоит» и сказала Лосеву:
— Павел вас прощает.
— Великодушно-с. Merci[2]. А вы?
— Что мы?
— Тоже прощаете?
— Мы вас отпускаем. Идите.
Вдруг Люба, поднявшись, быстро подошла к Евгению Алексеевичу и, пожав ему обе руки, молвила:
— Я вас тоже прощаю, я гораздо виноватее вас. Если б вы знали, какая я гадкая!
— Не могу знать! Только зачем, барышня, так уж себя порочить? — ответил Лосев и вышел не прощаясь.
— Не удавился бы, очень уж развязно себя ведет! — заметила Верейская Устинье.
Та только махнула рукой.
— Такие не удавятся.
Ольга Семеновна страшно устала и первая подала пример, чтобы расходиться. Родиона Павловича покинула окаменелость, и он уже видел и говорил. Он чувствовал себя разбитым, как после похмелья. Вероятно, было часов около шести. Павла перенесли в спальную. Валентина решила остаться. Подойдя к Миусову, она вдруг сказала:
— Родион Павлович, помните, я вам сказывала, что люблю вас. За эти часы я столько пересмотрела и перечувствовала, что не мое чувство, а мое отношение к этой любви изменилось, — вы больше об этом не услышите от меня ни слова. И я думаю, что в таком случае мне можно будет остаться при Павле. То все перегорело, испепелилось.
Миусов некоторое время смотрел на Валентину усталыми, осовелыми глазами, потом ответил:
— Я вам не верю, Валентина. Как вы могли думать о своей любви сегодня? Нет, нет… конечно, мы не вольны в нашем сердце, но, знаете, лучше съездите за сиделкой, Ларион Дмитриевич оставил адрес и телефон.
После несчастья с Павлом как-то все разом оставили квартиру Миусовых, хотя, может быть, это только казалось, потому что в тот вечер у них собрался, как говорила Ольга Семеновна, весь свет. Но Родиону Павловичу, который, бывало, никогда не сидел дома, а теперь почти все время проводил у больного, казалось, что их все забросили. Каждый день бывал доктор Верейский, заходила Люба, которая старалась как можно больше ходить, как будто чтобы вознаградить себя за долгое сидение в кресле, изредка заглядывала Ольга Семеновна — вот и все. Дело в том, что он едва ли даже помнил всех посетителей того вечера, так что, когда Люба пришла в первый раз, Родиону Павловичу было новостью, что она выздоровела и может ходить. Пелагею, Лосева, Устинью и Матвея Петровича он совсем не помнил, а если и помнил, то как какой-то сон. Состояние какого-то столбняка не проходило, хотя он теперь уже и слышал, и видел, и говорил, как полагается. Это было скорее внутреннее, сердечное отупение, спячка, внешним же образом это выражалось разве только некоторою большею против прежнего одутловатостью лица, рассеянным взглядом слегка осовелых глаз и молчаливостью.
Вот и теперь, сидя уже полчаса с Любой, дожидавшейся, когда проснется Павел, Родион Павлович ничего не говорил, щуря глаза, словно он сделался близоруким. Люба казалась горбатой и не очень похорошела от своего исцеления. Даже как будто лицо ее несколько утратило свою птичью определенность и все черты слегка смазались, что очень к ней не шло, лишая выразительной остроты и не накладывая никакой мягкости. Ноги ее, когда она сидела, не касались пола, так она была мала, подбитый вороненок. Хотя она теперь ходила и даже преувеличенно была все время в движении, было страшно за каждый ее шаг, за каждый поворот: вот свалится, вот разобьется. И не только близким, знавшим недавнюю Любину болезнь, так казалось, даже на посторонних она производила такое впечатление, словно она ходит по льду или стеклу.
Родион Павлович отлично знал, что девушка недолюбливает его, но теперь это сознание не возбуждало в нем неприязни, а просто несколько стесняло, делало еще молчаливее, хотя он и не пытался угадать, за что Люба его не любит. Не любит и не любит, — что ж тут поделаешь? Вот Павла любит, да и есть за что. Вообще она, кажется, человек справедливый, несколько странный, впрочем.
Видаясь теперь с Миусовым чаще и бывая с ним более продолжительное время, Люба, в свою очередь, как-то присматривалась к нему, не то стараясь понять привязанность к нему Павла, не то видя в самом Родионе какую-то перемену и не зная, куда она поведет. Действительно, состояние Миусова походило на положение маятника, когда тот на одну терцию, сотую терции вдруг висит вертикально, и не знаешь, позабыл, куда направится его размах. Она мало говорила с Родионом Павловичем, словно остерегаясь или чувствуя себя виноватой перед ним.
Походив безо всякой видимой цели по комнате, Люба подошла к Миусову и сказала просительно, но сухо; сухо, почти сердито именно потому, что просительно:
— Родион Павлович, у меня к вам есть просьба.
— Пожалуйста.
— Вы только не удивляйтесь и не думайте обо мне худо.
— Что вы, Любовь Матвеевна, зачем же я буду так думать! В чем же дело? я слушаю.
— Видите ли, в тот вечер… ну, когда я выздоровела, я была очень взволнована… вы понимаете, все это несчастье… я говорила, может быть, чего не следовало бы говорить… я имею в виду свое признание, что я люблю вашего брата. Он, к счастью, не слышал его.