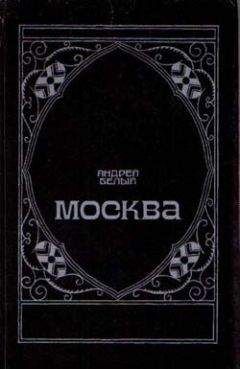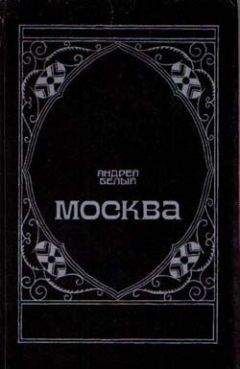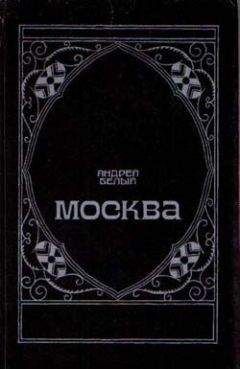Тут профессор Коробкин подкрался к плечу его теплой ладонью, как… к… мухе: «Никита Васильевич, вы, — трепанул по плечу, — ты мужайся, брат», — взлаял он.
«Ты» проскочило вполне неожиданно: точно он вспомнил совместные годы гимназии, угол в клопах, куда хаживал часто со Смайльсом в руках «Задопятов», соклассник, — к «Коробкину», к «Ване»:
— Еще, чего доброго, брат, — Анна Павловна встанет!
И дождь, Сверкунчишко Терентьевич, затеньтеренькал по крыше; и стал переулочек не Табачихинским, а Сверкунчихинским; Камень Петрович стал Камнем Перловичем; камни и крыши испрыскались дождичком.
Забирюзовались воздухи.
Желтый просох исклокочился травкой; заширился топольный воздух везде; и потом уже только раскрылась сирень; и сиреневый запах душил переулки; стояло дзененье комариков в серо-зеленые сумерки сада; и щелкало птицею; первая ласточка, забелогрудяся, взвизгнула: взвесилась в воздухе.
Стало тепло и пленительно.
Но безобразней валили бульваром безрылые толпы; из желтого гарева бухали меди оркестра. И кто-то, одевшися в летнепикейные брюки и в пестрый пиджак, с белоснежной панамой, зажатой в руке, подмахнув камышовою тросткою, несся — и несся и несся — в открытые дали сквозных переулков и улиц за «нею».
«Ее» — нигде не было.
Федор Иванович Пяткин, надев парусинный картузик, бродил, как и в прошлом году, и выискивал случай: напасть на знакомого.
Словом — весна!
И — Москва.
И Москва развалилась в весну, растаращась кварталами, — этим, сплошь сложенным из серо-желтых и серо-сиреневых кубов, с пролетом ландо, лихачей и трамваев под ними — в Сокольники, в Парк (под открытые сцены), ис этим — вразброску: пяти-, одно-, снова пяти-, снова одноэтажных и двух-трехэтажных домов: вот и с этим, которого цвет — белый с пагрязцею и которого дом — двухэтажный, без лепки, украшенный синею вывеской, с очень невзрачным проглядом подвальных окошек, откуда виднелся проход сапога пешехода (не сам пешеход), изнуряемый сыпью известки, разложенной аспидно-сереньким, серо-сиреневым, серо-песочным, желточным и розовым колером, только кой-где молодевший подцветом: морковным, кисельным, зеленым.
Дома деревянные, колером серо-кофейным, кофейно-коричневым, — разнообразили улицы; а переулки кривели живою раскрикой цветов: сине-грифельных, аспидно-розовых, где из двора проросла молодятина, где и забор прозвучал спевом ветра с гармоникой, а подзаборье рябило расплюями семячек, павертнем мух, улетавших в открытые зной; под грохот пролеток рыкал оглушительней лбастым булыжником в этом квартале; а тумбы — кривее здесь были; серей — мимоходы людей; когда небо — взадуй, здесь — сильней вертопрашило: и открывались везде сухоплясы; и дом здесь стоял, точно каменный ком.
Дом за домом — ком комом!
Там вечером кто-то садился и видеть, и нюхать: желчь пламени павшего четко на стену глухую; и коврика дух завонялый в окошко.
Вот улица с рядом фасадов (фасад за фасадом — ад адом); и вдруг — переулок тишайший.
Там дом деревянный, с дубово-оливковым колером и с полукругом резьбы надоконной надстройки, — стоял, украшаясь и ниже резьбою: Пегас, конь крылатый, припавший и справа, и слева к Горгоне (копытом и гривой — под змеи), был вырезан ясно; жильцам невдомек, что то вырезан миф; здесь, в прощеле ворот, и глубоком, и узком, вытарчивал угол сарая, качалась веревка с просушиной тряпок лимонных и синих, белела глухая стена трехэтажного дома, глядевшего в Пащеков глухо заросший листвою большого зеленого сада тупик, обливавший Москву соловьиным отщелком, — с сидящею девушкой в серо-сиреневом платье и в пляшущей ветром юбчонке.
Над ней — белилей лепесткой загроздившей сирени в глубоком и синем Васильевском небе, где облако, продувень, тая, терялось клоками.
Все это — Москва!
И Москвой назывался район, где Пречистенка, улица тихая, тая в сплошных переулках, стояла домами отдельными; там — в переулках — дома, отойдя с тротуара в глубь сада, скрывали свои и колонны, и окна листвою.
Свернем…
Вот — тот дом!
Пять жерельчатых, белых колонн, — без дантиклов; к абакам принизился розовым выступом легкий фронтон, треугольником врезанный в голубо-пепельный и в теплооблачный день; он тишал, отступя от колонн розоватой втеною с гирляндами белых венков над промытыми стеклами окон и чуть вдаваясь выступом низа: сложеньем квадратов; в подъезде — два льва, к тротуару слагающих продолговатые морды; и легкая арка ворот: в теплооблачный воздух; литою решеткой, скрещеньем Гермесовых жезликов, — отгородился от улицы; дворик асфальтовый, камень конюшни, кусты, — те, которые после дождя сребродроги: дотронешься, — и оборвутся потоками капель в тот час, когда кто-то у окон присядет покуривать в бисерный воздух, когда на обтесанных плитах подъезда детва плюет семячком в вечер, а вечер, уже от-стекливши окошком, является облачком цвета вишневого.
Рядом — пальметы, дантиклы, гирлянды оливково-темных колонн дома бледно-фисташковых колеров, где из гирлянд отовсюду просунулся мордой профессорский фавн овнорогий, затмившийся в зеленоватые сумерки, в шум от деревьев за домом живевшего сада; над купами месяц, свое новолуние спрыснув, твердится сквозным халцедоном из мутно-сиреневой тверди.
Москва!
Да, — она
* * *
А уж парит!
И — загрозарело; деревья склонились друг к другу бессмыслицей, шопотный смысл в них явивши; и пагубородное что-то закрыло луну, перед нею пропятяся лапой — когтистою, черной — подкравшейся тучи; уж лапа разорвана в желто-зеленые и в желто-черные клочья; над ней, за трубой дымовой, — черно-желто-зеленая пасть: уже жутя, в пустом переулке дряхлец тащит челюсть на шее; фасад за фасадом — ад адом.
И двери, как трещины.
Загрозарело: ругается где-то прохожая туча; темнеет; за крышею семиэтажного кубища небо — взадуй: сухоплясами в окна; и — молньями в окна; дом, каменный ком, вспыхнув в выжелчень пламени, смерк; и в нем кто-то, дряхлый, на бедой стене в переулочке, вспыхнувши шеей и челюстью, — смерк.
Положа руку на сердце, — там, на эстраде, в проходах — стояли, сидели, обменивались впечатлением, поклонами иль протирали пенсне, — Айвазулина, Бабзе, Ветмашко, Глистирченко-Тырчин, Икавшев, Капустин-Копанчик, Нахрай-Хар-калев, Ослабабнев, Олябыш, Олессерер, Пларченко, Плачей-Перперчик, Шлюпуй, Убавлягин, Уппло, Фердерперцер и прочие, прочие — вплоть до Боговича: свора имен! Из них каждое — «им я», согбенное бременем лет, многотомных трудов, орденов и ученых дипломов, уже заключенное заживо в «Энциклопедию»; хоть бы — Пластальцев, лет десять сидящий в «Гранате»[92] (такой есть словарь) меж «пластрон» и меж «Плантагенеты».
Хотя б — Айвазулина: женщина-стереохимик, взошедшая на Титикаку, сказавшая спич в Сантафэ-де-Боготе, надевшая около острова Пасхи скафандру и после едва не бежавшая с дон-Бордигере-Хуан-де-Петелло, министром бразильским; Глистирченко-Тырчин, прорезавший опухоль горла у вдовствующей кронпринцессы австрийской; Нахрай-Харкалев, путешественник, автор двухтомья «Цвай ярен мит антропофаген», друживший с Hьям-Ньямами, съевший в Уганде засохшие уши убитых врагов негра Мбэбвы, ошибочно думая, что то — сухие грибы; а Капустин-Копанчик (вот он — челюсть пятит к мадам де-Моргасько), он автор работы «Отчет по окраске плазмодиев осмиевым препаратом» (три тома); «Шлюпуй — не шлюпяк» (в словаре у «Граната» они оказались рядом), а (явствует все из «Граната») профессор и автор работы «О действии Леонтодон-Тараксакотум на сокращенье кишечника Лутра Вульгарис»; а Плачей-Пеперчик, известный в Германии, в Льеже. Досель в гейдельбергском химическом техникуме стоит крик о «пепертшик, с титрируйтен».
Все появились они, чтоб отчествовать «Математический Сборник»; и — да-с — вот так фунт: основателя «Сборников» этих, Ивана Иваныча, ждал бенефис, да — какой еще!
Фунт с полуфунтом!
Ивану Иванычу было невтолк и невесть, — что же, собственно, будет; обычно он вел заседанья; он — был заседаньем: решал, открывал, заседал; сообщал — только он; все иные, присутствующие в «Математическом Обществе» — только молчали: сегодня он был отстранен от всего (Млодзиевский взял в руки его); дело ясное, — да-с, — что предмет заседания — он; в этом случае сам соблюдал отстраненье; держался «предметом»; и тупил глазенки, когда заводили беседу об этом; сегодня бодрился с утра; перетрусил к обеду.
Теперь — дободрился и — выглядел доблестно.
Попричесался, загладил махры; и казался, представьте, курчавиком; щелкал крахмалом пропяченной грудью; во фраке кургузом — курбатиком выглядел; с ним обходились внимательно; как показался в профессорскую — разбежки, подбежки; Млодзиевский, и тот — бегушком: петушком! Члены Общества и делегация были во фраках смешных, белогорлые и белогрудые; туго зафраченный Умов подкрался на цыпочках — с ласкововещим, искательным голосом; все вкруг сгрудились, друг другу внушая очками: быть легкими, ясными; слышался шопот: