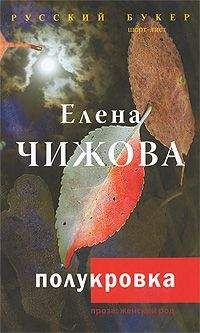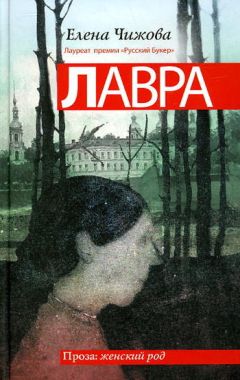"Откройте", - мужской голос ударил в наружную обивку, и в тот же миг, словно душа сорвалась с карниза, на котором держалась чудом, я узнала: это пришли за мной. Стоящий за дверью был одет в кожу. Я видела ясно, как будто дверь становилась односторонне прозрачной - как в кино, когда опознают. Опознав, я задохнулась. Подлое время, на которое я положилась, отбросило меня назад, как щепку. Держась за притолоку коснеющими пальцами, я думала собранно, быстро и коротко: старое пальто, теплая кофта, что-нибудь меховое, необходимых припасов не было, я успела выбросить все. "Ну, что ж..." - я вдохнула, перемогая. Я знала, как должно вести себя в прошлом: только не показать, только - достойно. Твердым голосом я осведомилась - кто?
"Простите меня, это сосед, окна - напротив, в другом крыле, пожалуйста, откройте". Я слушала, не понимая. Веселый, почтительный голос извинялся из-за двери. Шальная мысль посетила меня: "Вы не туда попали, если вам..." - я назвала имя соседки, предположив, что полуночник - к ней. "Нет, нет, я не путаю, - он отрицал радостно, - дело в том, что ваши окна, они выходят во двор, я сидел на кухне, смотрел, и вдруг, это как чудо, все гасло, понимаете, весь огромный дом, и только мое и ваше горят, и я вдруг подумал - как будто никого, только мы с вами, на всей земле... Я сидел и писал, а потом подумал, я должен увидеть вас. Это - правда, пожалуйста, посмотрите, вы можете убедиться, посмотреть в окно - ни одного". - "Вы сошли с ума, - я сказала, сохраняя последнюю твердость, - убирайтесь сейчас же, вы - пьяный", - теперь уже жалким голосом.
"Ну, скажете, пьяный - это уж слишком! - он возмутился, не обижаясь. Если бы вы сказали - выпил, да, в этом есть доля..." - "У меня болен ребенок, я сейчас разбужу мужа, он - в милицию..." - Я заговорила быстро, все еще не справляясь с дрожью. Последнее подействовало. Шаги тронулись к лифту. Тихий стон взявшей с места кабины поднимался из глубины. Створки раздвинулись и закрылись. Переждав, чтобы не было обмана, я пошла в комнату - назад. Обведя глазами необозримый контур опрокинутого дома, я убедилась: на фасаде корпуса, граничащего с нашим, горело единственное окно. Я глядела внимательно. Одинокая фигура пересекала заснеженный двор. Огибая помойные бачки, высветленные плывущим фонарем, он ступал нетвердо. Остановившись у моего, взмахнул рукой. Неверные ноги вывели на вечную лужу, и, удерживая равновесие, он заскользил по льду. Я подумала, если бы не зима - утром они достали бы двойным багром.
Больше я не заснула. Остаток ночи просидела в глубоком кресле, обдумывая случившееся. На все лады я повторяла, нет, сам по себе он не стоит моих размышлений, но что-то, таившееся в глубине, опровергало здравые доводы. Я говорила, обыкновенный пьяница, допился до чертей, подняла нелегкая, что мне до него, когда спускается радость, я слышу слова, восходящие над городом, белые и парящие, обрывки новых - невиданных - слов. Стоит выбросить и отмыть, раздать и освободиться от прошлого, и они сомкнутся в цельные цепи, воспарят и вознесут. Так я уговаривала себя, но мысль возвращалась туда, где я, державшаяся за притолоку неверными пальцами, ясно видела кожу, в которую был облачен тот, кто стоял за моей дверью. Эта кожа была новой и хрусткой. Обитая дверь, которой касались пальцы, становилась зыбкой гранью. Они проникали беспрепятственно, я не посмела выговорить - кто. Я вспомнила, Господи, так было однажды, когда, упираясь в зыбкую лестничную стену, я опознала собственное прошлое - девочку, повязанную радужным шарфом, не умевшую бояться времени. Нет, я подумала, нет - теперь по-другому: чтобы расслышать звуки, надо снова перестать бояться. Я мотнула головой, возвращаясь: этот страх я не умела превозмочь. Страх был глубоким и сильным, прорастал в дальнее прошлое, уходившее глубже моей детской радужной памяти.
На этот раз, приникнув к обитой наглухо двери, не пропускавшей звуков, я мгновенно опознала чужое: так приходят, чтобы забрать. Звонок был грубым и страшным. Никто из нашей семьи такого звона не слышал. Нас обошло, не тронуло, миновало. Откуда же я?.. Чужая, общая, недостижимая память разверзлась в моей душе. Весь долгий день, час за часом, я выбрасывала лишнее, чтобы освободиться, но оно - проклятое, подлое время - оно играло само, и эта игра не зависела от моей скованной страхом воли. Откуда мне знать, разве я могла знать заранее: именно так, выбрасывая жалкие земные остатки, расчищают заваленный путь, по которому, как по изъезженным добела рельсам, движется чужое неотторжимое прошлое, лежащее пластом под испорченной памятью? Я озиралась растерянно. За окнами стояла мгла. В ней, как в черненом зеркале, отражалась спинка кресла, горящая лампа, заложенный книгами письменный стол. Все, окружавшее меня, двоилось, повторяясь во тьме. Раздвоенная комната сходилась на оконной грани. Та, что стояла за плечами, заглядывала в мои глаза. Я чувствовала себя особенной, нулевой точкой, из которой исходят две оси, стремящиеся в бесконечность. Бесконечностей было две. Семь небес, на которые я мнила взобраться, множились в глубине зазеркалья. По их числу лежали пласты канувшего прошлого, из которых детство оказывалось всего лишь одним верхним.
Дождавшись утра, я оделась и вышла из квартиры. Машинально, как делала каждый день, я потянулась к кнопке, но удержала руку. Стон разбуженного лифта мог разбудить чужих. Лишние свидетели нежелательны. Ступая тихо, я шла вниз по лестнице, проходя на цыпочках мимо спавших дверей. Спустившись, я вышла во двор. Все было укрыто белым, сколько хватало глаз. Белый покров лежал на кустах, на крышах гаражей, на козырьках притворенных подъездов. Таясь и оглядываясь на спящие окна, я подходила к бакам. Меня вело странное, необъяснимое желание, и не было моих сил - противиться. Подойдя вплотную, я заглянула за край. На самом дне, под рваным куском чужого выброшенного целлофана, лежала меховая варежка, я вынесла в куче, они не заметили, роясь. Я стояла, заглядывая в бак, как в колодец. Слишком глубоко, рукой не достать. Край бака - грязный. Подтянув деревянный ящик, я встала обеими ногами. Теперь, перегнувшись, я ухватила целлофановый угол и потянула на себя. Прозрачный кусок был большим и чистым: не успели забросать. Подложив под грудь, я легла всем телом и, стараясь не вдыхать смрадные испарения, выхватила их обе: вторая варежка лежала рядом. Спрыгнув с ящика, я метнулась к парадной. На бегу я думала, если и видели, пусть думают, растяпа, выбросила по ошибке, деньги, золотое колечко, да мало ли что...
Добежав до квартиры, я закрылась в ванной. Расправив испачканные варежки, я стирала помойные следы. Внутренний меховой слой не затронуло. Обмыв верхний, кожаный, я вытерла насухо. Кожа припахивала порошком и помойкой. Помойные запахи - приставучие, теперь жди, пока выветрится, никакой водой не отмыть. Подумав хорошенько, я сложила варежки в холщовый картофельный мешочек. Взвесив на руке невесомое, я добавила упаковку сахара-рафинада, и, словно вспомнив, пачку английского чая "Earl Grey". Мешочек тяжелил руку. Машинально я подумала: чай привез муж, купил в tax-free, в аэропорту, и эта мелькнувшая мысль отрезвила меня. Опустившись на табуретку, я оглядывала кухонные полки, словно приходила в себя. Готовый картофельный мешочек лежал на моих коленях, я смотрела с ужасом, словно кто-то другой - ни живой, ни мертвый, - знавший тверже и лучше меня, заставил вынуть, сложить, приготовиться. Этот кто-то, знать не знающий о счастливых магазинах, в которых не платят пошлин, умел обдумывать загодя, не полагался на последний - кожаный - миг. Я сидела, озираясь, словно не я - другой сидел на моей вымытой, готовой к празднику кухне. К этому празднику он приготовился по-своему. "Господи, так сходят с ума, неужели - и я?.. Нет, только не это, все, что угодно, но этого - не будет" Оглядевшись, я сунула мешочек в зазор между стеной и холодильником.
Я проспала до самого вечера. Веселые голоса, поднявшиеся в прихожей, разбудили меня. Муж заглядывал в комнату: "Спишь уже?" - он спрашивал удивленно. "Сейчас, встану", - пригладив волосы, я поднялась. Сосредоточенная мысль гнала меня на кухню: я хотела убедиться. Готовый картофельный мешочек лежал в щели между холодильником и стеной. Отец Глеб, усевшийся в уголке, улыбался навстречу. "Чистота-то какая!" - муж входил за мною следом, радостно озираясь. Он не видел другого, сидевшего на моей кухне, отмытой после чужой жизни.
"Ну, что? - потирая руки, муж обернулся к кухонной полке. - Чайку, а? Где у нас тут - хороший? - Он двигал банки, переставляя их с места на место, искал пачку, которую я приготовила. - Где же... тут было..." - муж спрашивал недоуменно. Приблизившись к щели, я заслонила собой. Отец Глеб смотрел внимательно. Другой, сидевший смирно, кивал, не подымая глаз. "Я убирала, там - жучки, все в жучках и личинках, мне пришлось выбросить, и чай, и сахар, и крупы". Господи, я подумала, как же это я, в мешочек надо было еще - крупы.
"Этого не может быть, я же - только что, и магазин-то не наш, хороший, у меня и чек", - я видела, муж и вправду расстроился. "Ты хотел, чтобы я оставила, с жучками, ты не веришь?" - не отступая от холодильника, я говорила высоким, сварливым, скверным голосом. "Нет, конечно, нет", - растерянный, он отступил. "Нет заварки, попьем ти-питочку, как говаривала моя бабушка, Царствие ей Небесное", - отец Глеб вступил примиряюще. "Что ты говоришь, и моя!" - муж воскликнул радостно, словно, посчитавшись мертвыми, они нашли своих. "Вот видишь, значит, у нас с тобой была общая бабушка, - отец Глеб засмеялся и посмотрел на меня. Что-то изменилось в его взгляде, вспыхнуло и напряглось, стало твердым. - Бабушка, общая..." - он повторил, не думая, одними губами.