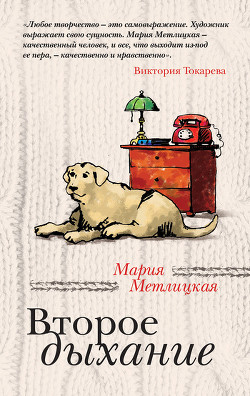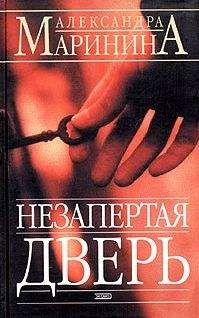самого этих молодых красоток было в избытке. Позавидовал тому, что можно не скрываясь идти вместе и за руку, не прячась по гостиничкам да по чужим, снятым на три часа квартирам со специфическим запахом. В тех квартирах пахло всегда одинаково – какой-то жгучей химией, которая, видимо, уничтожала все следы и запахи. Полотенцами из прачечной. И еще блудом, отчаянием, одиночеством…
Кстати, после этих почасовых съемов ему всегда хотелось домой. В привычное, уютное, незыблемое тепло, в привычные запахи домашней кухни, бульона или борща, в родную кровать, где белье замечательно пахло цветочной отдушкой.
А еще он завидовал Косте потому, что тот решился. Решился оборвать постылую жизнь и все начать с нуля. Наплевал на чужое мнение, на обиды жены и слезы матери. Он хотел быть счастливым. Счастливым не втихаря, а в открытую. Вместе с любимой ходить в бассейн и в рестораны, в кино и в театры, путешествовать. Словом, жить и дышать полной грудью.
Однажды, уже после Костиного ухода из семьи, они обедали в каком-то ресторанчике и Илья осторожно спросил:
– Не жалеешь?
– О чем? – не понял дружок.
Вправду не понял, по нему было видно.
Смущенный, Илья начал неловко бормотать что-то об оставленных детях, о жалости к брошенной жене, о переживаниях Костиной матери.
Тот искренне расхохотался:
– Дети? Да плевать я хотел! Вырастил, выпустил в жизнь. И между прочим, они неплохо стоят! А старший, кстати, сын бывшей жены от первого брака. Но я его любил и никогда не вспоминал, что он мне не родной, веришь? Всегда считал своим. Маман? Да брось! – усмехнулся Костя. – Мать мою бывшую всю жизнь ненавидела! С первых дней причитала, что она мне всю жизнь испортила. Как только не называла – и старухой, и престарелой шлюхой, и грязной подстилкой. И бывшая, надо сказать, в долгу не оставалась – и так мою матушку, и наперетак! Что ты, там перья летели! А теперь они лучшие подруги. Короче, кино! А что до бывшей, – нахмурился Костя, – да нет, не жалею. Знаешь, я ее никогда не любил. Женился по дурости, мне двадцать, сопливый пацан, ей тридцать, женщина в самом расцвете. К тому же красавица, актриса. А когда пришел в себя, было поздно – ее сын называет меня папой, и наш общий уже народился. В общем, я струсил. Всех жалел, а ее в первую очередь. Из театра ее поперли, располнела после вторых родов, да и характер у нее дерьмовый. Она вообще истеричка – такие скандалы закатывала! Ну я и подумал – куда ей с двумя пацанами без работы? Да и не до гулянок мне было и не до любовей – девяностые, перестройка, бизнес и бабки, бабки… Ну ты и сам знаешь. В те годы мы все утонули в бизнесе. Мы-то с тобой выжили, нам повезло. А сколько ушло?
А когда я встретил свою женщину, тут задумался – сколько той жизни? Так и доживать ее в раздражении, в скандалах и ненависти? Я на бывшую смотреть спокойно не мог, все бесило! Как ест, как спит, как трындит по телефону. Невыносимо. Ну и… – Костя разулыбался. – Ни на минуту не пожалел, веришь?
Илья пожал плечами:
– Повезло.
– Еще как! – воодушевился приятель. – Ты даже не представляешь!
– Не представляю, вот это ты правильно заметил.
– И знаешь, – добавил Костя, – странное дело. Мой старший, ну, в смысле, ее сын, ситуацию принял. Понял меня. Сказал, пап, я вообще не представляю, как ты с ней столько лет прожил! Короче, поддержал, и мы прекрасно общаемся. А младший, наш общий… – Костя грустно усмехнулся. – Мы не общаемся. Обиделся крепко, мама и все такое. А я думаю, испугался за наследство. А вдруг мы мало́го родим? Тогда все будет делиться на четверых: трое детей и моя вторая жена. Вот такие дела…
Все ждали развязки. Обычной стандартной развязки – измена молодой, последующий скандал, развод и дележка имущества. Ну и дальше по схеме: инфаркт, инсульт, депрессия. Но ничего не происходило. Молодые были по-прежнему счастливы. По настоянию Кости забрали и дочку второй жены, привезли из молдавского села, и полюбил ее Костя как родную. Лелеял, как куколку, и ничего не жалел.
А Илью тогда закрутило. Сильно закрутило, чуть не пропал. Влюбился, как пятиклассник. Смотрел на Ларису и млел, растекался, словно подтаявшее мороженое. Как будто не было до нее кучи баб! Хотел ее так, как не хотел никого. Понимал, что лебединая песня. А купол снесло.
Любу жалел. Думал: «Главное чувство, которое я к жене всю жизнь испытывал, – жалость. Жалость и благодарность». Было за что и жалеть, и благодарить. Влипал, попадал пару раз – бизнес по-русски, куда деваться. Наехали на него в конце концов сильно, боялся, костей не собрать. Помогла, как ни странно, жена. Слабая и тихая Люба как-то мигом собралась, сгруппировалась – спокойно, без истерик. Цацки, шубы, антиквариат – все продала и ни о чем ни разу не всплакнула, никогда не напомнила. Еще и его поддерживала. В те черные дни он сидел, не вставая, в кресле и смотрел в стену. Страдал. От унижения больше всего. «Как же так со мной? С уважаемым и солидным человеком? Какая-то шелупонь, гопота в спортивных костюмах, я им в отцы гожусь, а они меня унижают! Эта пыль под ногами, голодранцы сопливые, мне тыкают.
Когда с бизнесом разобрались, жена взялась за него – психиатр, таблетки, занятия с психологом. Тогда, в те скорбные и унизительные дни, Люба научилась водить машину – он за руль не садился. Он вообще ничего не мог. Ничего. Ни работать, ни рулить, ни ходить на работу. Даже по телефону не мог разговаривать. Все дела вела Люба. Когда все отдали, переехали в скромную маленькую квартирку и пересели в старенькую «реношку». А Люба пошла на работу. Сидела за сущие гроши с ребенком, капризным двухлеткой, уставала с ним так, что вечером не могла разговаривать, но, отдохнув, вставала к плите.
Все было на ней: магазины, готовка, работа, внучка. И он, здоровенный замороженный тюфяк. Три года длилась такая паршивая «овощная» жизнь, три года он не верил, что все изменится и вернется на круги своя. Три года усмехался, когда Люба строила планы. Ага, как же: «Летом поедем в Карелию!» Думал: «Вот дурочка, верит! Какая Карелия, какая Волга?» Он и до магазина доходит с трудом. А ведь вытащила, выходила, подняла. Придя в себя, он яростно бросился в работу. Пахал дни и ночи, и постепенно все действительно стало как прежде. А